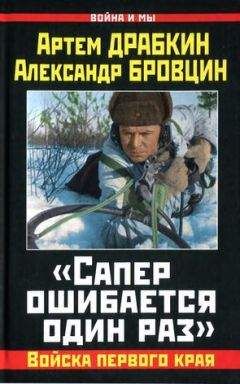Бессонные ночи полны тревог — не упущено ли чего, все ли сделано, вспоминались обиды и оскорбления, пережитые за день. Да всего испытанного в тот год не упомнишь — на расстоянии многое забывается, но серьезнее всего то, что даже перестаешь возмущаться.
Уволившись, я взяла два месяца отпуска: хотелось подвести черту. Частные клиники? С этим покончено... Поищем места в больнице Общественной благотворительности. Написав более тридцати писем — всюду нужны были сестры, — я выбрала место в полубесплатном заведении, которое занималось восстановлением двигательных функций. Школьные мечты о специализации отошли в область предания. Я выбирала работу наименее изматывающую и как можно лучше оплачиваемую. Теперь я получала ежемесячно 1700 франков[6]. Первый год прошел относительно благополучно, невзирая на одного из членов дирекции, который и слушать ничего не хотел, когда ему докладывали о каком-нибудь неотложном деле, но всеми способами старался до отказа завалить персонал работой, натравливал людей друг на друга, исключительно для того, чтобы показать свою власть. Там я тоже насмотрелась всяческих ужасов, но это уже не действовало на меня так как прежде, когда я была еще преисполнена иллюзий и веры в святость моей профессии. В дни больших обходов — веселая каторга омовений, приправленная обидными замечаниями в адрес несчастных стариков. Не к чести своей должна признаться, что грешила этим и я. Оно и понятно. Когда все осточертевает, то без разъяснений, которые тебе дадут в профсоюзе, так легко спутать, кто твой истинный мучитель, вот и кидаешься на того, кто к тебе ближе.
Уровень медицинского обслуживания оставлял желать лучшего, и в большинстве случаев мы получали приказ не особенно вмешиваться... Старики не имели гроша за душой, к чему длить их угасание.
Мы, сестры, едва разбирались в болезнях этих стариков. Двое совершенно неожиданно умерли на наших глазах, а мы так и не поняли почему. Целую неделю после этого я буквально глаз не сомкнула от огорчения. Ведь они лежали у нас больше трех месяцев. Мы успели уже познакомиться, полюбили друг друга.
Я вообще люблю пожилых людей, мы обязаны к ним относиться с почтением и признательностью, но во многих лечебных заведениях наблюдается как раз обратное. Старикам хотелось бы, чтобы с ними поговорили, поняли их. Они любят предаваться воспоминаниям юности, потому что их страшит будущее, пугает смерть. Нужда ухватила их за глотку, хотя они и ишачили всю свою жизнь; терзают их и семейные заботы: «Невестка меня не любит, оба они целый день на работе... Куда деваться после больницы?»
...Чувствую, что если не урву время для самообразования, то покачусь по наклонной плоскости, забуду все, что когда-то учила. Эх, должны бы существовать курсы усовершенствования...
Вот итог впечатлений от нескольких лет работы. С прошлого года я член профсоюза и Французской коммунистической партии. Мой муж мне во всем помогает, несмотря на это, я ощущаю порой безысходное одиночество.
Я люблю свою профессию, но со столькими неполадками приходится мне в ней сталкиваться! Я хочу перемен и мечтаю сражаться упорнее, и лучше, и больше — за то, чтобы все изменилось. Я крепко люблю свою трудовую жизнь.
Мирей Л.
P.S. Если то, что я вам написала, послужит правому делу, я буду счастлива.
■В одном из предместий Парижа недавно возведена восемнадцатиэтажная бетонная башня, возвышающаяся над подъемными кранами и развороченной бульдозерами глиной.
«Гуманизация». Вы входите в холл, который похож на аэропорт в уменьшенном виде. Цветочные и книжные киоски, бар-закусочная, парикмахер и салон красоты (все это достаточно дорого стоит), часовня, звонки к капеллану и к пастору.
Но отсюда никто не вылетает на самолете, зато некоторые прибывают вертолетом (который обслуживает экстренную скорую помощь и реанимацию), доставляющим сюда людей, искалеченных «цивилизацией»: дорожные аварии, несчастные случаи на производстве, инфаркты, самоубийства.
Не хватает лишь сладкого голоса из громкоговорителя (но в некоторых подобных учреждениях, кажется, и это уже введено); голоса хриплого, но сладкого, типа «Воскресенья в Орли», который говорил бы: «Пассажиров, направляющихся в гематологию, просят к лифту 5 — остановка на 10-м этаже. Спасибо». Или: «Пассажиры, следующие в направлении иммунизации, ваш лифт отходит. Будьте любезны явиться с историями болезни в коридор 8, лифт 11, остановка на 8-м этаже. Профессор Эмиль X. желает вам всяческого благополучия в его секторе... Пассажиры, убывающие от нас, мы надеемся на новую и незамедлительную встречу».
Апофеоз карьеры Марты: теперь я в качестве младшей сестры прохожу испытательный срок в одном из тех учреждений хирургической реанимации, которые считаются лучшими в Европе и которые так охотно показывают иностранным гостям.
Разительный контраст с обветшалыми больницами, к которым я привыкла: здесь все другое, как состав больных, так и обслуга; здесь призваны раздуть ту искорку жизни, что тлеет где-то в глубинах ночи, в которую погружены больные, «потерпевшие аварию»; здесь все полно спокойствия и здравомыслия; электроника, асептика и эффективность. В реанимационной хирургии царит роскошная тишина. По стенам развешаны фотографии и абстрактные картины.
Ночи на передовом посту. Прежде чем проникнуть в центр реанимационной травматологической хирургии, Марта надевает зеленовато-голубую пижаму (все голубое — стерильно), натягивает целлулоидные сапожки, завязывает за ушами тесемки маски. Плакат, висящий на стене, привлекает внимание персонала: в прошлом месяце на каждых семь больных пришлось по 15 000 (цифра явно преувеличена) пар единожды использованных перчаток.
Жюстина, которая продолжает ежеутренне голыми руками и без маски сортировать ночное белье, перепачканное кровью и экскрементами, попади она сюда, в этот мир, куда я проникла, совсем бы потерялась. Впрочем, меня уверяют, что у любой попадающей сюда медсестры голова поначалу идет кругом.
Здесь-то часы не отстают: они показывают двадцатый век.
■Точно в четыре утра дрозд начинал петь в больничном саду — там, у Елены. Можно подумать, что в зобу у птиц — часы. Я открываю окно в коридоре, который ведет в хирургическую реанимацию, и всматриваюсь в белесую ночь. Перерыв, в уснувшем пригороде где-то тоже свистит дрозд, дежурный дрозд. Ведь сейчас четыре часа утра.
Ночники льют свой приглушенный синий свет. Я сплю, стоя у окна, и Марта перевоплощается в Райнер, которая в 1943 году так гордилась тем, что ей поручили ночное дежурство в роддоме. Помогать ночью рождению младенцев, а днем участвовать в подпольной борьбе — тут любой и более взрослый, чем я тогда, возгордился бы.
Сегодняшней ночью, спустя тридцать лет, Марта следит взглядом за машиной «скорой помощи», которая въезжает во двор, а все ее мысли там — в роддоме. Ностальгия. Почему эти тридцать лет прожила я не в белом халате?
Однако ни 1943 год, ни работа в П. не представляли собой ничего вдохновляющего. Ученицы набивали руку на самых что ни на есть бедных женщинах, истощенных, отдавших все свои силы зреющему плоду. Впалые щеки, землистый цвет лица, запах нищеты, лихорадочное дыхание, озлобленность с начала и до конца. Ни еды, ни мыла. Окон почти не открывали, чтобы сохранить хоть какое-то тепло. Зима нагрянула на Францию, лишенную угля. Все дрожали от холода. Но это не мешало нам, молодым, веселиться напропалую.
Однажды мне поручили зарегистрировать вновь прибывшую роженицу.
— Имя, фамилия, семейное положение?
Она оказалась незамужем.
— Кого известить в случае надобности?
...Полное отсутствие кого бы то ни было. В анкете значилось: «Фамилия родителя». Я спросила попонятнее:
— Назовите фамилию отца вашего ребенка.
— Не могу, мадемуазель, я почувствовала только пуговицы его мундира.
— Ясно, дело происходило вдалеке от уличного фонаря, — прокомментировал ординатор.
Эта реплика облетела роддом. Возможно, она и до сих пор удержалась там в приемном покое. Уличная проститутка? Это так и осталось невыясненным. Мы смеялись. Как идиоты.
В этом учреждении я стала свидетельницей привычного глумления над женщиной, которое меня, неопытного подростка, лишь теоретически знакомого с тем, что такое любовь и каковы ее последствия, потрясло до глубины души. К нам доставили хрупкую женщину с потерянным взглядом. Маточное кровотечение.
Профессор X. позвал меня: «Подержи таз, милочка». Хирургическое зеркало, длинная, тонкая и острая ложка для выскабливания... Больная вопит. Я обезумела. «Мсье, почему? Почему без анестезии?» Профессор снисходит до объяснения: «Мадемуазель, мы всегда производим без анестезии выскабливание, спровоцированное искусственным выкидышем». Он злобно поворачивается к почти безжизненной женщине: «Это вас научит, мадам, не повторять подобного».