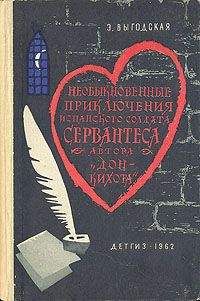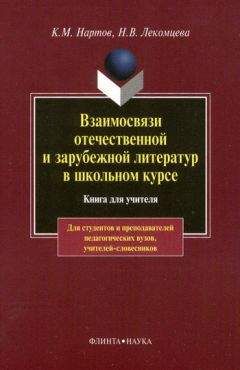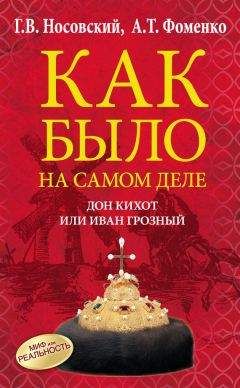Столь же достойным предшественником Жан-Жака покажет себя и Дон Кихот в рассуждениях об образовании и предназначении в речах, обращенных к Рыцарю Зеленого Плаща, простому сельскому идальго, посетовавшему на то, что его сын предпочел поэзию, пренебрегши правом и богословием. Какие доводы приводит Дон Кихот? «Принуждать же их заниматься той или другой наукой я не почитаю благоразумным, — здесь можно действовать только убеждением»; и затем добавляет: «Ей [поэзии] не должно знаться с шутами и с невежественною чернью, не способною понять и оценить сокровища, в ней заключенные. Пожалуйста, не думайте, сеньор, что под чернью я разумею только людей простых, людей низкого звания, всякий неуч, будь то сеньор или князь, может и должен быть сопричислен к черни». Док Кихот также замечает, что юноша, о котором шла речь, ошибочно предпочитает греческую и латинскую поэзию той, что создана на «романском»: «…великий Гомер не писал по-латыни, ибо был греком, Вергилий же не писал по-гречески». И, следовательно, пусть каждый говорит и пишет на своем наречии. Это идеи европейского гуманиста, идущего навстречу естественным устремлениям духа каждого народа, — предвестие того, что в XX веке будет названо национализмом.
Однако если Сервантес и его герой и стоят на пороге национализма, понятого как естественная сила духа, которая в лучших своих проявлениях дает нациям такое же самосознание, как и человеческим особям, то мы увидим, как они преодолевают и отрицательные стороны национализма, ведущие к розни и войнам. Сцена, в которой оба они высмеивают национальную ограниченность, властвующую над умами, до сих не осмыслена во всем ее сатирическом значении.
Кто не читал те дивные страницы, где два стада овец и баранов превращаются в воображении Дон Кихота в два громадных, сражающихся войска? И как забыть те сказочно-комические имена и названия, которые придумывает Дон Кихот, поясняя Санчо, какие народы и страны прислали эти войска? Кстати, об этих именах — стоит присмотреться к ним повнимательнее.
Сегодня обычно ни у кого не возникает сомнений в том, что в иных из них содержится намек на герцога Медина-Сидония, адмирала Непобедимой Армады, и некоторых членов его семейства. Ровно так же «великий император Пентаполин Засученный Рукав» — это почти наверняка язвительный намек на Филиппа II, который отнюдь не прославил свое имя воинскими подвигами и чьи владения можно было перечислить двумя способами: Кастилия, Арагон, Португалия, Неаполь и Сицилия, или же Испания, Португалия, Италия, Фландрия и две Индии. Среди государств, чьи армии видит Дон Кихот своим зачарованным взором, он называет Испанию и испанцев, добавляет Апеннины и — может быть, чтобы сбить со следа цензора, — «все племена, которые населяют и наполняют собою Европу». А если ко всем подсказкам прибавить, что противник Пентаполина — Алифанфарон — царствует на некоем острове, пусть и названном Трапобаной[49], то мысль Сервантеса становится вполне очевидна.
Вот теперь мы можем оценить еще один смысл знаменитой битвы баранов. То, что составляет подлинную метаморфозу для Дон Кихота, для Сервантеса метаморфоза — сатирическая: Донкихотово безумие превращает баранов в войска, а Сервантес своей сатирой превращает войска в стада баранов. В этом противоположении смыслов содержится нечто в высшей степени европейское, а именно — контраст хвале, которую Сервантес неустанно поет битве при Лепанто — победе не только испанской, но и общеевропейской.
Для Сервантеса сражения между христианами не более, чем стычки между бараньими стадами — мысль Эразмова и одновременно европейская, поколением раньше высказанная другим последователем Эразма — Алонсо де Вальдесом, секретарем Карла V, считавшим, что любые войны между христианскими народами являются войнами гражданскими…
А как бы правили сами европейцы? На этот счет тоже известно мнение нашего Сервантеса, исполненное насмешки и сатиры, обретшее плоть, если можно так сказать, в одном из самых забавных эпизодов книги. Дело происходит в самом конце первой части: на постоялый двор, принимаемый Дон Кихотом за замок, стекается изумляющее нас множество людей, с которыми разыгрывается невероятное количество историй и событий. Внезапно цирюльник, хозяин шлема Мамбрина, который бросает взгляд на Серого, узнает свое седло, сорванное с его осла и захваченное Санчо в качестве трофея. Цирюльник заявляет на него права, и в этот момент Санчо, подражая своему хозяину, заявляет, что это вовсе не вьючное ослиное седло, а лошадиная попона, оба настаивают — каждый на своем.
Можно ли найти лучший символ для любых выборов? Каждая сторона заявляет о своей правде, о своем видении. Меж тем дон Фернандо — в конце концов, он сын герцога — додумывается до решения, которое позволяет ему действовать по-начальственному и которым всякий герцогский сын владеет преотлично: обернуть дело в свою пользу. И тогда, освященный авторитетом своего титула, он объявляет, что проведет плебисцит, с тайным голосованием конечно же, для чего обходит всех присутствующих по кругу, спрашивая каждого, седло это или попона; а поскольку тут царит круговая порука и все желают провести время наилучшим образом, то заявляют, что это попона. И выходит, как говаривают французы: если все ошибаются, значит, все правы[50] — и цирюльник проигрывает «выборы».
Конечно, речь идет не просто о более-менее универсальной сатире на избирательную систему, которая также составляет предмет одной из многочисленных речей Сервантеса, выражающих его постоянные раздумья о том, что есть истина. Это тот самый вопрос, который таится в самом сердце этого вроде бы вполне развлекательного, на первый взгляд, романа; вопрос, на который чуть не на каждой странице отвечают два голоса: ответ a priori — странствующего рыцаря и ответ a posteriori — его оруженосца. Дон Кихот вступает в реальный мир, заранее зная, чему должно, а чему не должно быть таким, а не иным, при этом ему не раз приходится подгонять реальность под идею. Санчо же не обременен какой-либо изначальной идеей, да и понятия не имеет ни о каких таких основных идеях: а потому готов принимать все, как есть, щедро изливая свои мысли в пословицах, которые подсказывает ему память. Пережитой и живой смысл правды, обретенный в опыте, — где еще он выражен так ярко, как в многочисленных репликах Санчо? В качестве примера приведу его чудесные слова: «Остров так остров, я постараюсь быть таким губернатором, чтобы назло всем мошенникам душа моя попала на небо. И это я не из корысти мечу в высокие начальники и залетаю в барские хоромы — просто мне хочется попробовать, какое оно, это губернаторство».
Однако замысел этой книги слишком сложен, чтобы сводить ее к антитезе белого и черного. Так, стоит прислушаться к самой лучшей похвале пословицам, произнесенной Дон Кихотом и всячески заслуживающей цитирования, хотя в романе это лишь одно из наблюдений, брошенных рыцарем походя, вопреки фундаментальному значению, которое придавала народной мудрости тогдашняя эпоха: «Думается мне, Санчо, нет таких пословиц, которые бы не были истинны — ведь все это изречения, добытые чистым жизненным опытом, основой всех наук». Здесь слышится голос Сервантеса, звучащий в унисон с голосом другого его современника — Фрэнсиса Бэкона, и голос истинно европейский. Но если Дон Кихот так и думает, то живет он совершенно иначе. В жизни он платоник, встречающий реальность заранее заданной идеей и бдительно следящий за тем, чтобы реальность ей соответствовала. И все же, однако, не стоит преувеличивать, ибо это было бы отступлением от Сервантеса, который превосходно все предусмотрел, заставив самого Санчо провозгласить: «Я из рода Панса, а Панса, все до одного, упрямцы, и если кто из нас сказал: „нечет“, хотя бы на самом деле был чет, так, всему свету назло, и поставит на своем: нечет, да и только».
Сервантес особо подчеркивает контраст между двумя своими героями в пиранделловском эпизоде начала второй части, где рыцарь и его оруженосец комментируют собственную историю, уже изданную в виде книги и всеми прочитанную. Дон Кихот хмурит лоб и беспокоится об ошибках, которые в умаление его славы допустил автор; Санчо же без всяких оговорок и опасений вовсю наслаждается своей популярностью. Два полюса истины — имена им Платон и Аристотель, распространившие свое влияние на европейский дух, — лицом к лицу встречаются благодаря роману, который, тем самым, обозначает один из путей, избранных Европой для самопознания.
Под конец книги вспомним еще одну сцену, исполненную смысла и новых интеллектуальных веяний: ту, где Дон Кихот и Санчо сталкиваются с шайкой каталонских разбойников во главе со знаменитым Роке Гинартом. Сервантес описывает, как этот прославленный бандит «распорядился немедленно возвратить их [захваченные вещи] Санчо, а затем, выстроив людей своих в ряд, велел им выложить одежду, драгоценности, деньги — словом, все, что было ими награблено со времени последнего дележа добычи; он быстро произвел оценку и, переведя на деньги стоимость того, что дележу не поддавалось, распределил добычу между всеми, кто состоял в его шайке, в высшей степени справедливо и точно, ни на йоту не уклонившись от дистрибутивного права и ни в чем против него не погрешив». Затем автор заставляет разбойника пояснить: «Если не проявлять такой точности, с ними невозможно было бы ужиться».