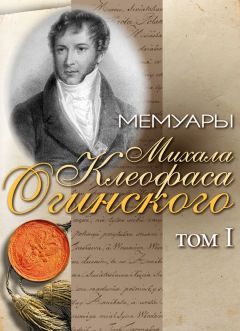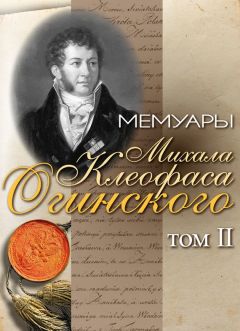Приняв решения по этим важным вопросам 24 марта 1791 года, сейм выразил убежденность в том, что недостаточно принять хорошие законы – нужно еще обеспечить их исполнение, и потому поручил королю и государственному совету надзор за действиями исполнительной власти в периоды между сеймами, созывы сеймов и все прочее, чего могло потребовать состояние дел в государстве.
Что касалось меморандума, представленного сейму городами, которые требовали привилегий для своих жителей, то он был первоначально направлен комиссии, созданной специально для его рассмотрения. Проект, представленный этой комиссией затем на рассмотрение общего собрания, был разумным и умеренным, и все же он вызвал энергичные возражения, которые были сняты лишь после внесения в него поправок Сухоржецким, нунцием от Калиша. Эти поправки были прочитаны затем вместе с самим проектом, и он был принят единогласно.
В тот же день, когда этот закон был принят сеймом, князь Адам Чарторыйский, граф Потоцкий, великий маршалок литовский, и Малаховский, маршалок сейма, приняли горожан Варшавы, и их примеру последовали первые вельможи государства.
Декрет сейма, принятый накануне 3 мая, объявил, что высокое собрание отказывается навсегда от права принимать решения об отделении или уступке какой бы то ни было части территории Речи Посполитой. Принятие такого решения было продиктовано патриотическим энтузиазмом, и оно прошло тем легче, что партия оппозиции с удовольствием предвкушала, насколько король Пруссии будет оскорблен этим решением, которое снимало все дальнейшие рассуждения по вопросу о Торуне и Гданьске.
Нельзя не признать, что этот жест сейма был поспешным и бесполезным по своей сути, так как никакие заявления в поддержку целостности страны не могут устоять против силы. Одним росчерком пера была перечеркнута надежда противостоять России без поддержки Пруссии. Одновременно это был и отказ от торговых договоров с Пруссией, Англией и Голландией, которые обещали немало преимуществ польской нации.
Этот шаг был совершенно неполитичным, так как после конгресса в Рейхенбахе король Пруссии успел сблизиться с венским кабинетом и начинал опасаться заключения Россией мира с Турцией, что не вызвало бы у России затруднений, так как после подписания договора в Вареле она могла не беспокоиться о выпадах со стороны Швеции. Прусский король начинал охладевать и к полякам как из-за их сопротивления по поводу уступки Торуня и Гданьска, так и из-за разговоров, которые ходили в Варшаве на его счет, а также из-за медлительности в обсуждении торгового договора.
Его первый министр Герцберг со времени подписания договора в Рейхенбахе находился в состоянии недовольства и был раздражен той неторопливостью, которую проявляли поляки в объединении своих интересов с Пруссией и установлении более тесных связей с ней посредством торгового договора. Он возбуждал в своем хозяине короле недобрые чувства к полякам.
В то же время Россия, которая всегда имела своих агентов при берлинском дворе, старалась дискредитировать Герцберга в глазах короля Пруссии, чтобы окружить этого властителя советниками, более благосклонными к интересам петербургского двора и разделявшими его отношение к французской революции. И все же, несмотря на упомянутое решение сейма, король много раз давал понять через своего представителя, что он не делал из оккупации Торуня и Гданьска главного условия для заключения торгового договора. Он даже сделал вид, что не огорчен этим бесповоротным отказом сейма.
В соответствии с указаниями короля, обсуждение торгового договора не было прервано, и его представитель Луккезини делал вид, что старательно улаживает все возникающие трудности.
16 декабря 1790 года новоизбранные нунции присоединились к заседанию сейма, увеличив собою вдвое количество представителей нации; действия сейма стали более активными. Однако извне поступали тревожные известия, частично обоснованные, но большей частью сфабрикованные с целью внести смуту в ряды нации. Они порождали беспокойство и колебания среди членов сейма.
Донесения польских посланников, аккредитованных при различных дворах, сообщали о слухах насчет возможности нового раздела страны, и это еще более усиливало тревогу патриотов. Они озаботились тем, чтобы сократить затянувшуюся работу сейма одним решительным действием, которое не могло быть произведено без участия короля. Это действие могло спасти Польшу, если бы объединило короля и нацию неразрывной связью, и тогда появилась бы возможность привести страну в такое состояние, в котором она могла противостоять всем угрозам соседних государств.
Речь шла о том, чтобы весь проект конституции принять в целом на одном заседании. Сначала не решались сообщить королю об этой мере, которая становилась, однако, настоятельно необходимой. Впрочем, в течение некоторого времени он был уже настолько расположен следовать всем пожеланиям нации, польщен тем почтением, которое ему выказывали, и авторитетом, который за ним признавали, что в конце концов было решено довести до его сведения проект конституции в том виде, в каком он был составлен комиссией.
Король попросил некоторое время для его изучения и внесения поправок и оставил за собой право предложить собранию этот конституционный акт. Он не сделал в нем никаких изменений, но был рад возможности представить его сейму как собственный труд. Король прочел этот проект группе из нескольких доверенных лиц и перед прочтением заявил, что таково было веление его сердца и его мечта, как доброго гражданина.
С одной стороны, доброе расположение короля внушало надежду, но, с другой стороны, было опасение, как бы этот секрет не стал известен всему собранию – тогда оппозиционная партия, узнав об этом проекте, могла бы бросить все силы на то, чтобы разделаться с ним, используя при этом даже ложные средства.
Срок осуществления этого патриотического проекта был назначен на 5 мая, но король успел поделиться им с некоторыми лицами, которые не поддерживали его. Таким образом, оказались бесполезными все предосторожности, предпринятые для того, чтобы сохранить в тайне проект, преждевременное обнаружение которого могло повредить всему плану. Потому было сочтено разумным, в соответствии с мнением самого короля, предварить намеченный срок и назначить уже на 3 мая завершение того дела, которое могло полностью изменить государственное устройство Польши и оставить потомству имена тех, кто был у его истоков.
Накануне того памятного дня патриоты собрались вечером во дворце Радзивиллов, чтобы прослушать чтение конституционного акта. Он был встречен общими аплодисментами, и всеобщее согласие не было нарушено ничьим сопротивлением, хотя среди слушателей, которые специально не отбирались, были и сторонники России. Затем члены сейма явились к маршалку Малаховскому, и часть ночи посвятили сбору подписей. Оставалось ожидать, в спокойствии и радости сердца, но с нетерпением, наступления того великого дня, который должен был обеспечить нации свободу, независимость и процветание.
Открытию заседания 3 мая предшествовало собрание нескольких тысяч зрителей, из любопытства пришедших утром к стенам королевского замка. После речи маршалка, произнесенной применительно к обстоятельствам и взывавшей к патриотическим чувствам, была приглашена комиссия по иностранным делам, чтобы доложить о донесениях наших посланников при различных дворах. Эти сообщения должны были пробудить у всех чувство беспокойства относительно угрозы нашей родине со стороны соседей. Солтык, нунций из Кракова, поддержал заявление маршалка, сделанное по этому поводу. Король взял слово и заверил, что комиссия действительно получила известия, которые серьезно затрагивают безопасность и само существование страны, и предложил, дабы рассеять все сомнения, самой комиссии зачитать свое сообщение перед высоким собранием.
Это предложение, по сути совсем простое, могло быть опротестовано лишь малым числом оппозиции, которая опасалась разоблачения российских намерений. Один из нунциев этой партии стал на колени перед залом, простирая руки к трону и держа возле себя сына, шестилетнего ребенка, которого он привел, по его словам, чтобы принести его в жертву свободе, если она будет попрана в этот злосчастный день. Он упорно требовал слова, но ему не хотели его давать прежде доклада комиссии. Его настойчивость, однако, взяла верх, и ему было позволено произнести речь. В ней он обвинил комиссию в распространении ложных слухов, а конституционную партию – в возбуждении народа против тех, кто был с ней не согласен. Он обличал так называемых конспираторов, жертвой которых ему суждено стать, но не смог представить ни одного доказательства, имевшего хотя бы видимость правдоподобия. За его фанатичной речью, полной беспорядочных и непоследовательных мыслей, сразу же имело место чтение донесений, полученных комиссией от посланников Речи Посполитой при иностранных дворах. Все они единогласно заявляли о возможности нового раздела, который должен был лечь в основу мирного договора России с Турцией. Добавлялось также, что дружественные Польше государства не видели другого средства ее сохранения, кроме такого ее устройства, которое помогло бы ей собрать все свои силы воедино; что враждебные государства, наоборот, опасались всякой перемены, которая могла бы привести к такому результату, и старались этому помешать. В большинстве этих донесений указывалось, что Россия явно рассчитывала на лживость политики берлинского кабинета и продажность некоторых поляков.