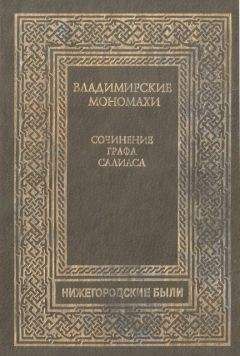Василий драл колосья… нащупывал, заталкивал в карман вслепую их колючую остистость – срывал, не в силах оторвать взгляд от чудовища на задних лапах.
Ашот закончил, оборвал тираду, и Прохоров впитал каким-то шестым чувством: зверь понял сказанное! Его движения вдруг обрели холодную бойцовскую разумность. Он опустился на четыре лапы, отпрыгнул в сторону, затем ещё раз – но уже в другую. Косматая махина подскакивала, едва касаясь камней, таранила рассвет над озером рваными скачками, вперёд башкой с прижатыми ушами. Оскаленная морда держала арбалет и Григоряна в перекрестье глаз, горевших раскалёнными углями в провалах черепных глазниц. Ашот водил перед собой оружие такими же рывками, не выпуская из прицела зверя: траектория его прыжков стала пожирать пространство между ними. Зверь, приближаясь, вёл атаку с пока неуловимой для отстрела тактикой.
– Возьми и отойди! – Ашот дёрнул из ножен один из двух клинков, протянул Василию. Тот взял блистающую тяжесть лезвия за рукоятку. Стал отходить. Грудь заполнялась вязкой лавой ярости, на темени зашевелились, поднимаясь, волосы.
Швыряя тело в хаотических зигзагах, зверь приближался. Траектория его прыжков смещалась к Прохорову: исчадию пещер был нужен не Посредник – его гость. Познал это Василий предельно обострившимся чутьём, косматого стража притягивал его карман, туго набитый колосьями. Страж нападал на похитителя реликвии: хлебоценности, проросшей из веков в сиюминутность.
Ашот, не опуская арбалета, притиснул ко рту ладонь. И розовую синь над просмолённым древом корабля проткнул зазывно-волчий вой. Василий замер. Едва осело эхо от зазыва, издалека вибрирующе отозвался свирепый квинтет собачьей стаи… Медведь услышал. Будто ткнувшись в стену, замер, припавши к земле: вой стаи пронизал его куда более опасным предостереженьем, чем речь Проводника.
Отрывисто и сухо щёлкнула тетива арбалета о металл. Стрела, со змеиным шипом пронизав пространство, вонзилась и застряла в рёбрах зверя. Взревев и изогнувшись, он цапнул пастью оперённое древко, сломал его. И кинулся вперёд – к Василию.
… Василий уворачивался от хлещущих когтистых лап, отпрыгивал и перекатывался в кульбитах. Остервенело трёхметровая махина пока не успевала за увёртливым двуногим. Тот заскочил за глыбу валуна. Оскалившись, медведь раздумывал, с клыков тягуче стекала стекловидная слюна. Раскачиваясь над валуном, он собирался обогнуть его прыжком, когда под кожу, в мускул ноги, вошло и полоснуло болью лезвие ножа – сзади напал Проводник. Зверь отмахнулся, задев ударом человечье тело.
… Прихрамывая, кособокой иноходью гонял пещерный страж пшеницы вокруг гранитной глыбы человечка. Движения того заметно набухали вязкостью изнеможенья. Оно застряло в мышцах похитителя свинцовой тяжестью, и только что медвежьи когти достали человечью плоть, вспоров одежду на плече.
Зверь почти настиг людское тело, когда на каменистое ристалище ворвалась стая. Пять лопоухих гиено-псов с клокочущим рыком насели на извечного врага. Младшой в наскоках полосовал зад и ляжки зверя, хрипел, выплёвывая клочья шерсти. Вожак и самка с двумя заматеревшими переярками вели фронтальную атаку, увёртываясь от когтистых лап. Неуловимыми зигзагами мелькали перед зверем их тела, калёные нерастраченным охотничьим азартом.
Василий бросился к лежащему Ашоту, пал на колени. Тот, ёрзая спиной по каменистому крошеву, стонал. Разодранные клочья комбинезона на боку под мышкой напитывались липко-красной клейковиной. Вспухали, лопались в углах губ бруснично-рдеющие пузыри.
Был медицинский навык у Василия со времён боксёрства и учебы в сельхозвузе. При виде пузырей зашлось сердце, нутром почуял – надломленным, вдавившимся ребром повреждено у Проводника лёгкое.
Он взваливал Ашота на спину. Взвалив, поднялся. Шатаясь, зашагал. Надрывно взмыкивал над ухом Григорян – терзала боль в груди.
За спиной взъярилась, достигла апогея свара у зверья. Медведь, увидев уходящих, ринулся вслед. Но тут же был свирепо остановлен – клыкастые пасти вцепились намертво в облитые сукровицей окорока.
… Василий шёл, выстанывая в муках спуска. С шуршащим рокотом плыло, сдвигалось крошево камней под ботинками. Стучало молотком в висках: не оступиться, не упасть. Тропа уже почти не различалась, мушиный чёрный рой сгущался перед глазами, пот заливал и разъедал их. Впитав в размытость зрения зелёное пятно перед собой, он рухнул на колени, хватая воздух пересохшим ртом. Ноги тряслись. Он приходил в себя. В память вливались узнаваемые приметы их маршрута. Рядом журчал в расщелине родник (он вспомнил: утром, едва выйдя из схорона, они напились здесь). С разбойным посвистом над каменным хаосом шнырял ветрило.
Василий опустил обмякшее тело Григоряна на травянистый бархатный ковер. На меловом, бескровном лице Проводника – закрытые глаза, Ашот был без сознания. Шатаясь и рыча, Василий стал подниматься. Не получилось, подломились ноги. И он пополз к роднику. У бьющей из расщелины хрустально-ледяной струи он сдёрнул с головы промокший от пота берет. Прополоскал его, пил долго и взахлёб. Напившись, зачерпнул в берет воды, пополз обратно. Вернувшись к Григоряну и пристроив меж камней наполненный суконный ковш, он взрезал ножом задубевшее от крови рваньё комбинезона на боку Ашота. Смыл кровь и увидел то, что предполагал: сливово-чёрная полоса кожи на боку вдавилась в грудную клеть – надломленное ударом ребро вмялось в легкое.
Свистящий над скалами сквозняк сдувал в небытие минуты, а с ними – жизнь Проводника...
Татьяна Смертина ”ПОЛЫНЬ ЛУННОЙ ГРИВОЙ МЕРЦАЕТ...”
***
Солнцем коронованы дубравы.
Стая белокурых облаков…
Ангелы купаются! В купавы
падают лучи во мглу цветов.
Маюсь, очарованная небом.
Надо скорби на земле принять:
здесь фиалки радостны – как небыль!
Каждый вздох полыни – благодать.
Крепдешин и ветер – бег изгибов…
Что ещё в наземный этот путь,
чтоб пройти по всем краям обрывов?
Лишь купаву – золотом на грудь.
***
Крестьянский крест вновь взвешивают где-то:
продать все земли, и живых, и прах?
И, удивляя иллюзорным бредом,
какой-то пляшет балаган на площадях.
Сквозь память Прошлого – иных слыхала!
Их души девственны, как свет свечи.
Но злой полынью Русь позарастала,
хоть плачь, хоть вой, или топор точи.
Зачем брожу босая по крапиве,
коль семена её – взяла земля?
Но не прикажешь сердцу в этом мире
искать иные кровные поля.
И эта истина простая вечна:
родила Родина – и здесь распят.
И молочай капелью бело-млечной
колени вяжет, и года летят…
***
Роса незыблемая, холод…
Роса, как сотни лет назад!
И снова кто-то очень молод,
и кто-то стар, всему не рад.
А я опасно научилась
жить и не в наших временах,
сквозь чистоту росы и стылость
могу туда уйти, где прах
летает в странных взломах света,
где прадед мой младенцем спит.
И так близка секунда эта,
что я её врезаю в стих.
И, окрошив росу на брови,
плечами вдруг оледенев,
пространство видя в каждом слове,
я превращаюсь в ту из дев,
что непонятно чем владеют
и непонятно как берут,
на три столетья каменеют,
потом вздохнут и вновь живут.
Моя распущена коса.
Роса. Роса.
КРЕСТ ВОИНА
Свет России печальный, туманный,
разрезающий долгую тьму.
Свет России зовущий, желанный,
что лампада в родимом дому.