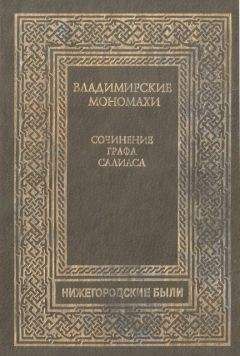на три столетья каменеют,
потом вздохнут и вновь живут.
Моя распущена коса.
Роса. Роса.
КРЕСТ ВОИНА
Свет России печальный, туманный,
разрезающий долгую тьму.
Свет России зовущий, желанный,
что лампада в родимом дому.
Этот свет в наши души уходит
и таится в глубинах сердец,
мы его и не чувствуем вроде,
но засвищет над полем свинец,
Да шарахнет огонь, понесётся,
и пронижет нежданно плечо,
иль пунктиром зенитка метнётся –
тут и станет душе горячо.
И подымется свет этот дивный,
он берёз и кувшинок белей,
и проснётся в нас родич былинный –
станем телом и духом сильней.
Труден воина крест и опасен,
только сильный сумеет нести.
Крест есть подвиг, а подвиг прекрасен.
Долг и честь – будут вечно в чести.
И о воинах в каждом селенье
в храмах молятся – свет от свечи.
И молитву о дивном спасеньи
Богородица слышит в ночи.
ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ
А.П. Горячевскому,
генерал-майору медицинской службы
Эта боль и повязки кровавость,
и пылание огненных ран…
Так душа с белым телом смешалась –
виден Господа лик сквозь туман.
Где-то мама тревогой объята,
в тихом храме свеча-оберёг.
И мерещится маме палата
и раскинувший руки сынок.
Юный воин – и это сраженье,
юный воин, и это твой крест.
Мама верит в твое воскресенье,
будет радость и слава, и честь!
Исцеления тихую веру
дарит тот, кто не даст умереть:
скальпель молнией бродит по телу –
трудно молнией Божьей владеть.
Боль – зигзагами. Житель? Не житель?
И душа уж рванулась уплыть.
Но хирург – словно Ангел-хранитель –
Жизнь-свечу не даёт погасить.
***
Вновь толпа, колыхаясь, течёт,
у метро – целый рой.
Исчезает уставший народ,
словно чудь, под землёй.
"Менделеевской" шум и шары.
Гул подземный и стук.
В электричку вхожу – все правы.
И высок мой каблук.
Сжаты душами! Мчимся в тоннель.
Тыщи дум – в тот проём.
Так же в небе – толпою теней! –
мы на свет поплывём.
Все молчим. Я надменная вновь.
Стон вагонный и всхлип.
Перерезал мне чёрную бровь
чёрной шляпы изгиб.
***
Долго ночью из окна
шла лиловая луна,
снег рождался и мерцал,
фиолетово блуждал,
то ли бледен, то ли ал.
А потом из темноты
вышли бледные цветы
и, качаясь предо мной,
засияли красотой,
закричали немотой.
Из колодца у сосны
поднялись былые сны.
Стало всех ушедших жаль.
Над челом чернела шаль,
и снегов сияла сталь.
Ах, верните жизни те,
землянику в решете,
и на грядках острый лук,
и сердец родимых стук.
Но вокруг из немоты –
лишь алмазные цветы.
***
Помню явь и высоту:
я ушла в волну ночную
и небесную звезду
променяла на морскую.
Помню брызги... тёмный вал...
Дальше – в памяти провал.
Иль царицей водяной
стала, косы распустив?
Или пленницей нагой,
белизну чадрой прикрыв?
Иль бродила, словно сон,
среди рыбок тихо-млечных,
вспоминая лишь о нём,
что давно с другою венчан...
Что стою на берегу?
Трон свой вспомнить не могу...
***
Полынь лунной гривой мерцает:
что мрак поглотил – не зови.
Жестокость – врагов порождает.
Измена – лишает любви.
Купавами куполы храма
плывут по небесной реке.
И Ангел в купели тумана
крылами зовёт вдалеке.
Мелькают вокруг лжеидеи
о том, как нам быть и не быть.
Мне их бы росой в орхидеи
на тёмной заре утопить!
Гоню я гнедого вдоль века,
изломаны нимбы осок.
Надломлена тонкая ветка,
и дождь ударяет в висок.
***
Я росла средь убитой деревни
и на шкуре медвежьей спала.
Волк заглядывал в зимние сени,
иней рос из сырого угла.
Я до тонкостей знала работы
в этих вечных хлевах и полях.
Комаров оголтелые роты
висли шалью на детских плечах.
Одеваюсь в метели и травы,
пробегаю по глади реки,
упадаю в глухие отавы,
чтоб плясали вокруг мотыльки.
Я не славлю убитые сини,
истерично о Прошлом не бьюсь.
Нелюбимый ребёнок Отчизны,
за которую кротко молюсь.
НА БОЙНЕ
Скрутили верёвкой,
рванули до боли,
и в ноздри ударил
чужой запах крови.
Взревел бык и сразу
учуял, что это –
разрыв с росным лугом,
конец его света.
Он вспомнил о тёлке
хрипя и тоскуя,
когда из-под горла
ударили струи.
Потом стал покорен,
ушла в землю сила,
в тот миг человечья
печаль в нём сквозила.
Вдруг кто-то нагнулся:
"Живой ещё, вроде..."
И ломом ударил
по вскинутой морде.
НИЛЫЧ
Он был бесстрашен, славен в околотке,
копал колодцы, плотничать любил.
Он печи клал, выделывал и лодки,
и на медведя в тёмный бор ходил.
Но вот в ту ночь, когда земля застыла,
и первый снег порхал в полях слепых,
его от страха до утра знобило,
кидало в дрожь от шорохов любых.
Тому виной – медведица шальная,
чья шкура распростёрлась тихо в ночь...
Она как будто на полу вздыхала!
И мнилось в ночь, что ей лежать невмочь.
И понял он, что за избою, рядом,
медвежий и подросший бродит сын.
Что это он – дверь выломал в ограде,
собаку уложил шлепком одним...
Давно он лапой оскребает двери: