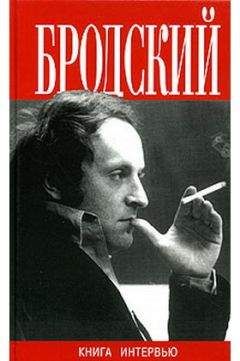Разумеется, всегда выигрывать — не получается. Где-то я "прокололся", назвав кого-то, про кого следователь, оказывается, не знал (например, писательницу Марию Рольникайте). Но где-то "прокололись" профессионалы… В целом, видится, следствие я выиграл: удалось их убедить, что с показаниями, которые есть против Эткинда или Марамзина, тащить обоих в суд — невыгодно. Санкция на возбуждение дела против фигуры с такой международной известностью, как Эткинд (Ефим был не только мэтром в сфере поэтики, но крупнейшим в Союзе знатоком французской культуры, соответственно человеком, популярным во Франции), дали Большому дому с Лубянки, конечно, с условием, что дело в Питере подготовят основательно и юридически чисто. Судить и сажать такого деятеля без улик представлялось даже Андропову нежелательным. И потому я уверен, что жуткая, возмутительная кампания, развязанная против него в Союзе писателей и на Ученых советах, должна была завершиться не высылкой профессора в Париж (пустили щуку в реку, называется), а внеслужебной командировкой совсем в иную зону — в секретные места Мордовии или Пермской области. Но с набранным в итоге следственным материалом думать о процессе оказалось невозможно — и пришлось трубить отбой! Заменять Явас Парижем…
Следователи с Лубянки бывали с вами откровенны? Рассказывали какие-то байки?
Бывало. Вот пример: кто-то туда донес, что Эткинд дал мою рукопись артисту Сергею Юрскому, который якобы готовил тогда программу из стихов Бродского. Майор Рябчук уверенно мне про это рассказывал, и, признаюсь, я был здорово польщен! Сам Юрский… Какое ж возникло разочарование, когда через много лет Юрский приехал на гастроли в Израиль, я пошел к нему за кулисы, чтоб спросить, правду ли мне говорил в 1974 году Виталий Николаевич Рябчук, и артист твердо ответил: нет, ничего такого не было, ничего моего он не читал, они его тогда вызвали на допрос, "я им так прямо и ответил"… Может, у Эткинда мелькнула некая мысль, может, он озвучил ее дома, при включенных микрофонах, да тут же и забыл, — мало ли что приходит в голову, а идея-то была зафиксирована в оперативно-наблюдательном деле как свершившийся факт! Поскольку "припереть" Юрского моими показаниями не могли, он и остался в ситуации "недобросовестного свидетеля", и вот — артиста-премьера Ленинграда пять лет не выпускали на сцену…
Любопытный психологический феномен: Юрский и в Иерусалиме отказывался поверить, когда я объяснил ему всю эту механику. Понятно: человек может смириться с наказанием даже суровым, если он действительно в чем-то виновен. Но никак не может впустить в голову, что сам, как говорится, "ни сном, ни духом" ничего не совершал, но по "неисповедимой в нашей стране силе тайного доноса" (А. Солженицын) выкидывают его ни за что из театра — и на долгие годы… И намекал же ему главреж БДТ Товстоногов: "Пойдите в Большой дом, спросите, что они имеют против вас", — а Юрский не мог в такую абсурдную чушь поверить…
Расскажите, как вы спасали Машу Эткинд от ареста.
Среди оперативных сведений, которые они собрали в квартире Эткинда, была точная информация о том, кто передал профессору мою рукопись. Маша! Следователю для "зачистки" дела требовалось эту информацию "закрыть" свидетельскими показаниями. А я, конечно, уперся: как договорились с Эткиндом, все долбил свое — мол, все из рук в руки профессору отдал…
На одном из последних допросов Карабанов меня "расколол": "Михаил Рувимович, я искренно не понимаю вашей позиции. Вы видите, что я ничего не придумываю — я не предполагаю, я точно знаю, что вашу статью Эткинд получил из рук Марии Ефимовны. В остальных случаях, когда вы понимали, что имеется информация, которой я точно владею, вы соглашались сотрудничать со следствием. Почему же именно в случае с Марией Ефимовной этот вариант не работает? Вот что меня заботит. Что вы такое особое в этом случае можете от нас скрывать?" — "Ладно, Валерий Павлович, постараюсь объяснить. Давайте чисто гипотетически предположим, что вы правы. Вывод? Мы с Эткиндом сидим в прежней позиции, но Маша-то несомненно будет обвинена в "распространении". Зачем мне такие показания?" — "А, понял… Что ж, по-своему логично. Но поймите вы и мою логику. Мы не заинтересованы в аресте Марии Ефимовны. Только этого не хватает: на скамью подсудимых рядом с вами посадить молодую женщину с грудным ребенком… Никому это в органах не нужно. Но и невозможно закрыть дело, пока имеется явное расхождение оперативных данных со свидетельскими показаниями. Есть еще обстоятельство, неизвестное вам пока что. Уже принято решение разрешить семье профессора Эткинда выехать в Париж. Но пока ваше дело не закрыто, они будут сидеть на чемоданах в Ленинграде. Как только суд кончится, Эткинды выезжают во Францию, это точно. Вы не против им в этом немного помочь?" — "Я хочу им помочь. Но не могу, Валерий Павлович. Над Марией Ефимовной в случае, если я приму как данность вашу гипотезу, может повиснуть обвинение по "семидесятке". Нет!" — "А если предположить, что она не прочла тогда вашу статью? Зачем, на самом деле, ей читать? И, не знакомясь с содержанием, только узнав из заголовка, что статья о поэзии, о Бродском, отдала ее отцу как чисто литературоведческое сочинение. Тогда никакой ответственности она не подлежит…" — "Пожалуй, эту версию можно обдумать".
Через некоторое время мне дали очную ставку с Машей. Какая оказалась редкая умница — мгновенно схватила суть новой ситуации, хотя не понимала, зачем я изменил намеченный заранее с Ефимом план действий. "Мишину статью читала? Зачем? Это поэзия, а у меня грудной ребенок…" Врала с настоящей женской естественностью, так легко и быстро, что мне казалось — даже следователь начал ей верить, будто не он сам всю эту историю для нас придумал…
Но вот показания согласованы, следователь разрешил "поговорить о бытовых делах", пока сидит за пишмашинкой — оформляет протокол очной ставки, глубоко погрузившись в ее текст. А сам, конечно, ушки навострил — вдруг интеллигентные простачки проговорятся о чем-то важном, думая, что он их не слушает…
— Как дела в доме? — спрашиваю.
— Все по-прежнему.
— Как (называется чье-то имя)?
— Нормально.
— Как В.?
— В Париж уехал.
— Гонорар получил?
— Да.
Ничего интересного, правда? И следователь ничего интересного не слышит… И УСЛЫШАТЬ не может — потому что при словах "гонорар подучил?" я яростно тычу в грудь рукой. И Машка — все сразу поняла! Это была самая важная для меня в то время информация — сообщить на волю, кто в нашем доме стукач. Пусть не поверят (не поверила, как выяснилось позже, даже моя жена) — но уж психологию-то писателей я знал хорошо: больше при В. откровенничать никто не будет. Береженого Бог бережет…
Почему вы до сих пор отказываетесь назвать имя этого В.?
Мне его жалко. Он, по моей личной оценке, главная пострадавшая фигура в этом деле. Кстати, его имя не раз называлось — прежде всего Соловьевым в его романе "Три еврея", да и сам В. писал о своем сотрудничестве с органами в "Ленинградском литераторе"… Но он человек слабый, а у них разработаны качественные методики для вербовки слабых людей (меня самого раз десять, возможно, вербовали, поэтому я точно это знаю). Его сломали — и пусть ему судьей будет Бог, а не я.
Как вас наградила родина за ваш вклад в бродсковедение?
Получил шесть лет: четыре — зоны и два — ссылки. На самом деле, мне, по их расчетам, полагалось меньше (уже после моего прибытия в зону следователь В. Карабанов вызвал мою мать и жену и предложил — "как частное лицо"! чтобы я написал просьбу о помиловании, обещав, что в таком случае "Михаил Рувимович через год будет воспитывать своих детей". Жена живо описала это действо в письме, доставленном в зону: "Он меня спросил: "А вы-то что сами для своего мужа хотите?" — "Я хочу, чтоб он остался тем же, кем был — порядочным человеком". — "Вот вы какая!" — заорал он, потея от злости"). Увы, я, как раньше и сам Бродский, отказался признавать себя виновным и потому должен был поиметь самую высшую, допускаемую судебной практикой меру от Ленгорсуда. Впрочем, он все же смягчил просьбу прокурора от ГБ на один год — вместо семи дали шесть…
Как реагировала ленинградская интеллигенция на дело Хейфеца?
Дело Хейфеца вызвало неожиданный общественный резонанс. До тех пор молодая литературная школа в Ленин граде рассуждала так: трудно жить и работать при советской власти, но Россия — единственное место в мире, где способен творить русский писатель. Что бы ни было, здесь всегда сохранялся шанс работать творчески, одновременно как-то зарабатывая на жизнь — переводами, дувЬшжом фильмов, халтурками на малых студиях, внутренними рецензиями. Сама идея отъезда из СССР выглядела духовно порочной — если исключить, конечно, возникновение еврейского национального сознания в чьей-то литературной душе. В этом варианте считался допустимым и отъезд. Но таких случаев было ничтожно мало.