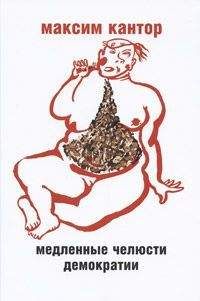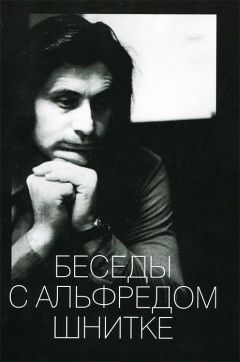Что сейчас происходит в России? Делается попытка строительства какого-то нового вида государственной литературы. Та литература, которая выполняет эту роль, должна быть едина. То, о чем говорит Иванов, еще более четко, прямолинейно изложил Дмитрий Ольшанский в нашумевшей статье «Как я стал черносотенцем». Он откровенно предлагает заменить уваровскую триаду ее новым вариантом – на его эпатажном языке это звучит: «упромысливать, гнобить и не петюкать». Имперский интерес требует сведения культуры к общему знаменателю.
Я.Ш.: Отсюда особенно заметны попытки создать в России новую идеологию. Но империи нет, государство разворовано – поэтому нет и имперской литературы. Это или неосоцреализм Александра Проханова, или современные сказки вроде «Укуса ангела» Павла Крусанова.
И.В. – Г.: Да, литература уже не готова маршировать в ногу. Двадцатый век практически испробовал все стили, все языки искусства – и уперся в бесконечные игры, ставшие самоцелью. Сегодня нет нелегитимных форм. Зато есть другое понимание культуры. Писатель ищет для себя те формы, которые соответствуют его видению себя в культуре. Я хотела бы показать это на более конкретных примерах, хорошо мне знакомых.
Из того, что было в последнее время опубликовано в «Зеркале», я выделила бы две особо важные формы: «Странствие в Ган Элон» Дмитрия Гденича и дневники Михаила Гробмана. Это два способа выражения, две крайние возможности литературного существования.
«Странствие в Ган Элон» – это герметичная жизнь литературы самой по себе, виртуозное владение словом, абсолютный стиль. Жизнь и судьба в формообразовании не участвуют – читающий ничего не узнает о нашем бытии, ничему не научится. Зато будет пребывать в эйфории первоклассного эстетического потребления, в нирване совершенства. Гденич строит новую реальность, внутри которой нет тени фэнтези.
Дневниковая проза Гробмана – это вообще новый жанр: жизнь как таковая, факты как таковые, история как таковая. Казалось бы, идет перечень самых мелких событий, бытовых подробностей. Но в сумме складывается историческая панорама, картина русского искусства исключительно важного периода. Здесь и самые важные культовые фигуры нашего времени, и личная история, любовь, сантименты, сплетни, пульс живых людей. Факты порождают новый стиль, новый литературный язык.
М.Г.: О форме литературы. Уклон в сторону формы – это еврейское качество, потому что полностью соответствует сидению в синагоге и изощренным текстологическим комбинациям талмудистов. Утонченность современной литературы – не только русской, – ее отход от реальной жизни и погружение в абстрактные материи – это подхвачено от евреев, которые впитали данные свойства с молоком матери. А вот Зощенко, к примеру, – это чисто славянский тип письма и говорения.
Впрочем, в реализме евреи не менее сильны. Но реализм их никогда не однозначен, за ним всегда кроется какая-то жизненная тайна. И в других видах искусства нечто похожее. Исаак Левитан как реалист – очень русский художник, но у него присутствует флер энигмы. Русский пейзаж у него окутан еврейской тайной. И как человек он был таким же.
Мы говорим об очередной модернизации литературы и о литературе как жизнестроительстве. Но первым модернизатором был Талмуд, переосмысливший Библию для новых исторических обстоятельств. Свое литературное жизнестроительство евреи начали очень давно – мы написали заповеди для своей жизни три с лишним тысячи лет назад. Попытки жизнестроительства мы наблюдаем у самых чувствительных русских писателей – например, у Лимонова, который из-за этого оказался за решеткой. А мы пишем письма в его защиту. Это наш долг, хотя жизнестроительство Лимонова более чем сомнительно, более того – имеет вид агрессивного, членовредительского, типично русского сектантства. Сейчас в России много таких патриотов, мечтающих оскопить свое общество во имя будущего счастья.
И еще на одном моменте я хочу остановиться. Русская литература всегда была ангажированной. После революции она сначала была ангажированной, но гениальной. А потом стала ангажированной и бездарной. Но в целом было мнение, что литература обязана ставить себя в подчинение определенным социальным, политическим, культурным обстоятельствам и что-то делать для людей. Именно это сегодня свет в конце тоннеля для русской литературы. На этом пути она создаст и новые формы. Для того, чтобы ангажировать, нужно постоянно обновлять язык, искать новые выразительные средства.
А.Г.: Против такой ангажированности я ничего не имею, если за образцы брать Маяковского, Платонова, Брехта, Дёблина. Но сегодня мы видим изуродованную ангажированность, когда значительные по своему дарованию и прежней роли в литературе писатели сознательно используют литературный арсенал двадцатого века для получения конкретных материальных выгод. Великое понятие литературы, привлеченной людьми для того, чтобы она помогла им наладить их жизнь, низводится до фарса, а писатели становятся «слугами народа» с тайной надеждой вновь оказаться его хозяевами, т. е. подключиться к избранной касте массмедийных развлекателей, добивающихся посредством этих развлечений господства.
Я.Ш.: Я не совсем согласен с тем, что в двадцатом веке уже перепробованы, исчерпаны все художественные средства. Об этом говорят как минимум раз в столетие.
Период «игры» в русской литературе конца прошлого века был просто обязателен. После казенной литературы нужно было уничтожить это псевдоискусство эстетическими средствами. Отсюда оперирование советскими мифами, их деструктивное развинчивание, издевательское обыгрывание стандартных ситуаций советской прозы и поэзии. Но в определенный момент эта деятельность стала самоцелью – она исчерпала себя, так как объект ненависти исчез.
Сегодня новую литературу делать очень опасно – идешь как по минному полю: после всех экспериментов последних десятилетий в каждом абзаце может быть заложен подвох. Все время рискуешь повторить чьи-то слова, фразы, стилевые приемы. Выход для литературы – вернуться к первичной простоте человеческого чувства, к искренности. Конечно, сейчас писать «просто» – это гораздо сложней, чем 50 лет назад. Уже тогда простота Красовицкого скрывала неизведанные глубины.
А.Г.: Речь сегодня идет о мазохистическом растворении писателя в массовой культуре, о его устремленности к ней, чтобы она его допустила к своим прелестям. Проще говоря – налицо капитуляция перед ней. Это отнюдь не аналитическая работа с материалом массовой культуры, работа, которая началась еще в 19-м веке, как минимум с Эмиля Золя, исследовавшего в «Дамском счастье» и «Чреве Парижа» язык товарного потребления, а в «Нана» – символику сексуальной экономики. Нет, это всемерное потакание массовым ценностям и униженная просьба о входном билете, когда, как говорил наш общий друг Павел Пепперштейн, имея в виду одного известного, некогда элитарного автора, роман пишется для того, чтобы освоить рецепты, обеспечивающие успех голливудскому боевику, и воспроизвести их в повествовательном слове. Вспоминается характерная сценка из томас-манновского «Доктора Фаустуса». Там описана компания немецко-еврейских интеллектуалов, предвидящих контуры новой Европы, абрис надвигающейся эпохи: мировую войну, формирование тотальных государств, тотальных идеологий. И как было бы славно, сокрушается рассказчик, если бы эти прозорливцы, осознав грядущее и его опасности, предупредили о них публику, – ничуть не бывало: они упивались своими интуициями и мечтали участвовать в их осуществлении, страстно надеясь быть допущенными в храмы этого варварства (конечно, на заметные роли).
И.В. – Г.: Мы все-таки логически перешли к содержанию современной литературы. Бараш приводил в пример препарирование им его собственной жизни литературными средствами, главным из которых становится предельно точное слово. Я думаю, что сегодня выбор писателем такого материала закономерен.
Содержание литературы в прежнем понимании исчезло: писателю не надо наблюдать, описывать. В нынешние времена «содержание» само настигает писателя, проникает в него и незаметно меняет его мироощущение. Что такое события 11 сентября? Это прозрение: мы живем не в «конце истории», не в рамках комфортабельной и гуманной цивилизации – по-прежнему возможно возвращение к средневековью и откат еще дальше назад. Естественно, после этого нормальный писатель уже не может быть наивно-благодушным в изображении человека. Мы видим, чем занимаются пишущие люди в России: они должны создавать новую культуру, зная о ежедневном посягательстве на самый смысл литературы – об исчезновении многих моральных понятий, об убийствах на улицах и в собственном подъезде, о Чечне.
Мне кажется, что не только в России идет поиск национального лица. Унижение, пережитое Америкой, брожение в Европе, связанное с размыванием моноэтнических основ некоторых государств, – все это стимулирует национализм. И литература не останется в стороне от этого. Писатель не может скрыть свой генетически заданный менталитет, национальный темперамент. Естественно, еврей будет писать по-русски не так, как русский. В этом отношении русской литературе в Израиле присуща «чистота эксперимента», четко выявляющая названную мной тенденцию.