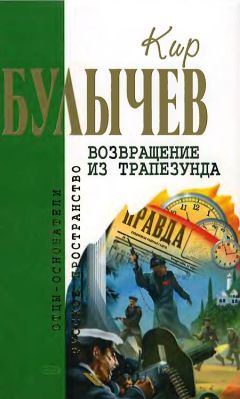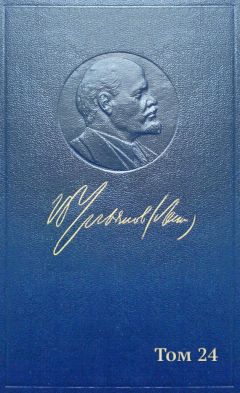— Я буду вынужден сообщить куда следует, — сказал Мандельштам, — о ваших угрозах, Блюмкин.
— Ты только попробуй, только двинься!
Блюмкин потрясал револьвером перед лицом тщедушного Мандельштама, и Коля увидел, что тот зажмурился. Интересно, подумал он, это хороший поэт или так себе? Он знал тех поэтов, которых проходили в гимназии — Пушкина, Лермонтова, Жуковского и Полонского.
Но современных поэтов не знал. Откуда их ему знать?
Мандельштам вскочил, опрокинул стул и принялся кричать на Яшу:
— Я вас не боюсь! Машите пистолетом сколько вам угодно! Всех не перестреляете.
Он повернулся и, проталкиваясь между потных людей, п шел к выходу.
Шум вокруг не уменьшился, мало кто заметил, что чекист машет пушкой. Может быть, это было не в новинку.
Блюмкин прицелился в спину Мандельштаму.
— Яшка! — закричал Есенин. — Побойся бога!
Блюмкин опустил револьвер и с искренним удивлением обернулся к поэту.
— Ты какого бога имеешь в виду?
Все вокруг облегченно засмеялись.
Вскоре Блюмкин закручинился и позвал Колю домой.
Никто Яшу не задерживал.
Вечер был холодным, налетали заряды дождя. Блюмкин повторял:
— Этот Мандельштам имеет доступ в верха. Он меня погубит! Ты не знаешь, Коля, сколько у меня врагов.
От очередной вспышки дождя они укрылись в подворотне.
— Скажи, а Беккер — еврейская фамилия?
— Немецкая, это означает «булочник. Но Беккеры так давно переселились в Россию, что даже немецкого языка не знают.
— А на идиш Беккер тоже «булочник. Наверно, все-таки еврейская. И не следовало бы тебе, чекист Андреев, отказываться от предков.
— Не неси чепухи, Яша, — сказал Коля. Как ему показалось, решительно. — Моя фамилия Берестов.
— А моя — Наполеон, И учти, ты пошел работать в организацию, которая знает о тебе куда больше, чем твоя мама. И когда-нибудь мы поговорим с тобой об ограблении и убийстве Сергея Серафимовича Берестова. Надо же — убить человека и взять имя его сына, Я тебя иногда боюсь, мой мальчик.
Блюмкин вышел из подворотни и приказал:
— Оставайся здесь и не смей за мной следить! Пристрелю, как собаку. И революция будет только рада, что избавилась от такого мерзавца.
Он быстро пошел по улице, отворачиваясь от дождевых струй и скользя по лужам.
Револьвер он не прятал, он держал его в повисшей руке.
Коля замер в подворотне. Он был рад хоть тому, что смог остаться один.
Знают ли они в самом деле что-нибудь о Берестове? Или это подозрение, и слова Блюмкина лишь провокация?
Коля переждал дождь и побрел в «Метрополь».
Ему никого не хотелось видеть.
Еще утром он был почти счастливым человеком, Он был влюблен в странную и привлекательную женщину и в то же время не отказывался от немолодой и полезной любовницы, у него было неплохое место в государственной структуре, причем самой влиятельной и всеведущей… но это обернулось против него. Сидел бы, не высовывался, не обратили бы на него внимание сыщики, его же коллеги. Теперь же в любой момент его могут арестовать…
Подойдя к дому Советов, он машинально поглядел на окно Фанни Каплан.
Ее силуэт был виден в нем. Фанни открыла окно, чтобы лучше увидеть Колю, когда тот придет.
В иной день он был бы счастлив тому, что Фанни ждет его.
Сейчас он не желал видеть и ее.
Завидев его, Фанни подняла руку. Она не была уверена, он ли это. Было темно, а с ее близорукостью даже в очках мало что разглядишь. Она надеялась на чувство, которое ее не обманет.
Понимая все это, Коля не стал отвечать на жест.
И оказался прав: у входа в дом Советов под тусклым фонарем курила Нина Островская.
— Живой! — произнесла она с облегчением.
И ее резкий голос уличного оратора разнесся по площади, может, даже добрался до Большого театра, но уж наверняка был услышан Фанни, которая даже наклонилась вперед, чтобы увидеть, кому голос принадлежит. Хотя знала кому.
— Не кричи, — сказал Коля. — Я был на выезде. Брали одного… поэта.
— Врешь, — сказала Нина, — я звонила в Чека. Никаких выездов. Ты с Блюмкиным где-то распутничал.
— Нина, только не здесь!
Коля понимал, что Фанни слышит все до последнего слова.
Он так спешил войти в гостиницу, что толкнул Нину. Она схватилась за косяк открытой двери.
— Ты меня бьешь?
Наверху хлопнуло окно. Фанни все слышала и все поняла.
— Прости. — Коля прошел мимо нее. Красногвардеец, стоявший на страже за стойкой швейцара, проснулся и вскочил.
— Спокойно, — сказал ему Коля.
Он пошел к лестнице.
— Стой! — крикнула вслед ему Нина. Ты обязан объясниться.
— Ничего я не обязан.
Нина бежала за ним по лестнице.
Коля отворил дверь в свою каморку, но не успел закрыть ее за собой.
Нина навалилась на дверь и оказалась рядом с ним в темной тесноте.
— Ты не смеешь, — бормотала она, растерявшись сама от того, что стоит, прижавшись к Коле, и злоба ее вдруг обрушилась, как плохо построенный кирпичный дом, рассыпавшись кирпичами по полу.
— Ты не смеешь, — повторила она. — Я тебя в порошок сотру…
— Уйди, — сказал Коля. — Я не хочу с тобой разговаривать.
Он уже не боялся ее.
— В конце концов, — громко прошептал он, словно темнота требовала понизить голос, — в конце концов, я служу партии не меньше, чем ты. Ты ничего не сможешь мне сделать…
— Я могу все! Нина тоже перешла на шепот. — Ты улетишь обратно в свою Феодосию, и тобой займутся органы. Твоим прошлым. Ты забыл, что именно я тебя создала.
— Это даже смешно! — ответил Коля.
Он понял, что хочет сделать ей больно, чтобы она заплакала, чтобы она почувствовала свое ничтожество перед сильным мужчиной. Здесь, ночью, все ее партийные штучки ничего не стоят.
— Ты баба, ты просто баба! — Он схватил ее за плечи и притянул к себе. Его пальцы вонзились ей в лопатки.
Нина охнула.
— Ты просто самка, сука, — шептал Коля, заваливая Нину на свою кровать.
А та вдруг замолчала и стала покорной и мягкой.
Он грубо поцеловал ее, так, чтобы завтра все увидели, что ее губа распухла… я сделаю так, чтобы твои губы распухли! Я сделаю так, что твоя щека распухнет.
Он ударил ее по щеке раскрытой ладонью.
Ее голова дернулась.
Из окна лился слабый свет позднего майского вечера.
Глаза Нины были раскрыты и смотрели на Колю так настойчиво и даже яростно, что он отвернулся, чтобы их не видеть.
Он раздевал ее неловко, потому что она ему не помогала, и от этого даже задрать длинную суконную юбку было непросто.
— Ну! — вырвалось у Коли. — Ты что? Помоги же.