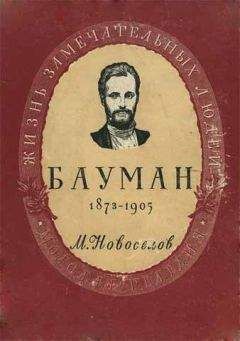Григорий Васильевич не сразу пришел в себя. Щека горела. Густылев и чернобородый смотрели на Григория Васильевича с ужасом. Он проговорил наконец, с трудом выдавливая из себя слова:
— Вы… за это… ответите… Я так не оставлю…
Послышались шаги. Густылев поспешно прикрыл печку и встал. Дверь открылась, вошел Бауман. Он взглянул на плачущую Ирину, сбившихся кучкой меньшевиков, и зрачки вспыхнули сразу темным огнем.
— Что здесь такое?
— Они… сожгли… — Ирина говорила с трудом, всхлипывая.-…сожгли все прокламации…
— Сожгли?!
Бауман шагнул вперед. Григорий Васильевич поторопился ответить. Щека у него все еще горела.
— Комитет на вчерашнем заседании отменил выступление.
— На заседании? — Глаза Грача вспыхнули еще ярче. — Каком заседании?
— Комитетском, экстренном. — Чернобородый продвинулся вперед и стал рядом с Григорием Васильевичем, распрямляя плечи, точно готовясь к драке. — На заседании было шесть членов из десяти.
Ирина чуть не вскрикнула от негодования и посмотрела на Грача.
Шесть из десяти! Большинство. Меньшевиков, чистых, в комитете считалось только четыре, остальные были грачевцы. Значит, вчера к Григорию Васильевичу перешли двое из большинства. Не может быть! Какое-то мошенничество, наверно.
Бауман молчал. Григорий Васильевич подтвердил слова чернобородого:
— Да, шестеро. Вас и… — он указал на Ирину (имя, очевидно, не повернулся назвать язык), — мы не смогли разыскать.
— Ложь! — крикнула Ирина. — Мы целые сутки печатали, не отлучаясь из дому. Никто не приходил.
Григорий Васильевич продолжал, не обратив внимания на окрик:
— Товарищ Семен болеет. Козуба, как известно, в отъезде, в текстильном районе…
Ирина перебила опять:
— Он вернулся вчера. Он работал с нами.
— Я об этом не был оповещен, — холодно ответил Григорий Васильевич. — Я имел все основания считать его отсутствующим. Впрочем, даже если бы мы предупредили всех, это не изменило бы результатов голосования. Кворум был. И, как я докладывал, за отмену голосовало абсолютное большинство: это легко проверить.
Бауман все еще молчал. В такие минуты никогда не надо торопиться сказать, потому что в такие минуты слово должно быть острым, как нож.
— Это воровство, — медленно сказал он наконец. — Я хочу сказать: комитетское постановление ваше уворовано у настоящего большинства.
— Формально… — начал Григорий Васильевич.
— В революции этого слова нет! — оборвал Бауман. — Но дискутировать с вами на эту тему я не собираюсь. Потрудитесь… вытряхнуть себя вон.
Григорий Васильевич раскрыл рот, широко, как карась в корзине, он задохся.
— Ка-ак?
— Та-ак! — отозвался Бауман жестко. — Баста! Мы еще терпели вашу канитель, пока вы только путались под ногами. Но раз вы докатились до срыва революционного выступления, то есть прямого предательства, — это уже не "шаг вперед, два шага назад", как пишет о вас Ильич, это уже бегом, опрометью, во весь дух- в чужой, вражий лагерь. По прямому вашему назначению!.. Ну и скатертью дорога!
— Раскол? — хрипло спросил чернобородый и откинул корпус назад; казалось, он сейчас ударит.
— Раскол? — холодно переспросил Бауман. — Этого даже расколом назвать нельзя. Мы просто выбрасываем вас вон.
Ирина засмеялась радостно:
— Наконец! Вот теперь-заживем!
Густылев оглянулся на типографские принадлежности на некрашеном, грубом столе, на колченогие табуреты, на раскрытую дверь в соседнюю, почти пустую, без мебели, комнату и хихикнул:
— Роскошно! Если вы даже при нас — в таком виде: всё в одном пункте…
— Вашими же стараниями, — брезгливо бросила Ирина.
Григории Васильевич подтвердил:
— Да. Нашими стараниями. Но вы просчитались в вашем объявлении войны. Вы не в курсе дела, я полагаю. Вам, очевидно, неизвестно, что Центральный Комитет согласился на введение в свой состав представителей меньшинства в достаточном количестве…
Густылев и чернобородый загоготали злорадно.
— …А Ленин совершенно изолирован. Центральный Комитет от него отказался. Мы его…
Бауман шагнул вперед. Жилы на висках набухли, глаза стали тяжелыми.
— Идите! Сейчас же! Если вы еще слово скажете, я…
— Насилие?! — взвизгнул Густылев. — Об этом будет сообщено Центральному Комитету.
— Нашему Центральному Комитету, — ударил на первом слове Григорий Васильевич. Он был бледен, но (с удовлетворением отметила Ирина) его щеку все еще жгло от глаза до губы красное пятно.
Они вышли гуськом. Хлопнула входная дверь. Кончилось? Или начинается только?
Ирина подняла глаза на Баумана:
— Они лгут, да?
Бауман тряхнул головой:
— Не знаю. После недавних провалов в Центральном Комитете неблагополучно: уцелели не лучшие. И здешний фокус показателен. Они бы никогда не посмели пойти открыто на такое дело, как срыв, если б не чувствовали за собой опоры. Это ж такая публика…
Ирина стояла недвижно, уронив руки вдоль тела, усталая.
— Неужели они в самом деле исключат Ленина?
— Ленина? — Бауман расхохотался искрение. — Разве Ленина можно исключить? Если бы ты с ним хоть часок провела, тебе никогда в голову не могла бы забрести такая чушь. Михаил Ломоносов, когда ему пригрозили, что отставят его от Академии наук, ответил: "Никак. Разве Академию от меня отставят". А Ленин даже так не мог бы сказать, потому что когда мы говорим-партия, это и значит-Ленин. И когда мы говорим — Ленин, это значит — партия.
Опять хлопнула дверь. Послышались шаги.
Козуба вошел. Он был весел.
— Встретил тройку… гнедых. Отсюда, что ли? Чего они солеными огурцами катятся?
Бауман рассказал в двух словах. Козуба крякнул:
— Баба с возу — коню легче, это безусловно. А вот что воскресенье они нам сорвали — это дело скверное. Без листовки не выйдет…
Ирина нагнулась над столом, над железной рамой с набором:
— Набор не весь рассыпан. Может быть, снова отпечатать поспеем?
— А выдержишь? Третью ночь не спать?
Ирина вместо ответа тряхнула косами и взяла верстатку.
— Стой… А бумага?
— Бумага? В самом деле… Грач, как с бумагой быть?
Бауман со вздохом почесал затылок:
— С бумагой? Надо купить: запаса не осталось.
— А деньги?
— Денег нет.
— Значит?..
— Значит, надо достать, — засмеялся Бауман — Действуйте! Я пока самовар поставлю; напьемся чаю, пораскинем умом, сообразим, где бы деньгами раздобыться. Если до вечера бумага будет, поспеем завтра к утру.
— Поздновато все же, — покачал головою Козуба. — в самый канун.