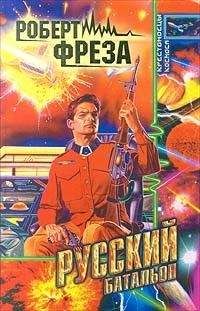Он подобрал сломанный хвощ и погладил его.
— Я знаю, — сказал он, не глядя на нее. — Быть может, было бы лучше, если бы мы все остались дома и любили друг друга? Господи Боже мой, мы ухитрились испакостить все миры, куда пришли, включая этот!
Пока он говорил, над горами, поросшими лесом, собрались пухлые облачка. Облачка потемнели, превратились в грозовые тучи. Небо рассекла молния, хлынул дождь, и через несколько минут пыль на дороге превратилась в непролазную грязь.
— Давай уберем все это в пикап, — сказал Санмартин, подхватив свою трость, рюкзак и автомат.
— Да ну еще! — ответила Ханна. — Спрячем под стол и поедим прямо тут.
Когда они управились с фруктами и жареным мясом, Ханна вновь заговорила. Она смотрела на струи дождя, стекающие по стенам их убежища и устремляющиеся в канавку, которую прорыл Санмартин. Она заговорила о том времени, когда еще жила на Земле.
— Мне было девятнадцать лет, когда я начала преподавать в лагерях. Там до сих пор есть лагеря для африканеров; которым не разрешают устроиться на работу. Однажды осенью я сказала детям: «Давайте организуем команду регбистов». Они сказали, что это здорово, только лучше сделать две команды, чтобы они могли играть между собой. Я сказала, что это хорошая идея. Я назначила двоих самых сильных мальчиков капитанами, и они стали подбирать себе команды.
Первую тренировку назначили на субботу. Я спросила, как Они решили назвать свои команды. Мальчишки сказали, что они об этом еще не думали, но если надо непременно как-то назвать, то пусть одна команда будет называться «Потгитеристы», а другая — «Маланисты». Потому что в одной команде были ребята из семей, которые поддерживали Пот-гитера, а в другой — из семей, которые поддерживали Малана. Я извинилась и ушла в комнату девочек. Мне стало плохо.
Позже — гораздо позже — мне позвонил отец, — продолжала она с таким видом, словно рассказывает историю, слышанную от кого-то другого и не имеющую к ней никакого отношения. — После того, как моя мать умерла, отец женился вторично. Мы никогда не были близки с ним, особенно с тех пор, как я уехала учиться. Но он позвонил и сказал, что выбил для нас пятерых — моей мачехи, ее двоих детей, его самого и для меня — разрешение на эмиграцию. Не то чтобы он был груб, но фактически приказывал улететь. Я ответила, что мне надо подумать. И вот тогда он принялся умолять меня, чтобы я согласилась. И я согласилась. Он меня никогда ни о чем не просил, кроме того раза.
— Твой отец умер? — спросил Санмартин.
— Да. Сердце отказало. Но на корабле… Понимаешь, корабль был битком набит африканерами, целыми семьями. Это было как воссоединение: половина моего класса летела там же. И только много дней спустя я заметила, что летели только «потгите-ристы». Никого из «маланистов» там не было. Вот тогда я поняла, почему отец так просил меня уехать.
— Я все собирался тебя спросить — почему ты с нами?
Она тихо рассмеялась.
— Я даже не знаю. Это было так странно… Они решили прекратить преподавание английского в младших классах, и я осталась без работы. А на следующей неделе те же самые люди пришли ко мне и умоляли, чтобы я помогла им договориться с имперским майором.
Санмартин вспомнил, как Ретталья провел первую неделю, отлавливая людей, которых власть имущие вырвали из привычной, нормальной жизни. Главное, говорил майор, это убрать всяких неудачников. Остальные сами утихнут.
— Они меня не понимали: что это за женщина, которая не стремится выйти замуж и уехать! — объясняла Ханна так, словно это было вполне естественно. — Я не знаю, что бы я стала делать. Я не хотела ничего понимать. Хотела просто жить, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Многие так существуют — неприятно ведь видеть, как много вокруг плохого.
— Да, — медленно ответил Санмартин, — неприятно.
— Ты ведь понимаешь, люди задают себе вопросы…
Он кивнул.
— Вы управляете нами с помощью законов военного времени. Прекрасно. Но ведь это тянется уже три месяца! И трезвые, рассудительные, ответственные люди задаются вопросом, что вы будете делать, когда военные законы прекратят свое действие. Этот человек, Андрасси, которого ввели в Ландрост, они же видят его, знают, кто его туда назначил!
Он кивнул.
— Это — как бы сказать? — нарастает, медленно, постепенно. Но скоро сметет нас всех.
Ее дед и то несколько раз задавал этот вопрос. Страх — как зараза, эпидемия времен катастрофы, он не щадит ни старых, ни малых.
— Ты никогда не рассказываешь о своей родине, — сказала она после паузы.
На скулах у него заиграли желваки.
— У меня нет родины. Когда я уезжал, мне нечего было забрать с собой.
Теперь уже она не знала, что ответить.
— Однажды я взял отпуск на несколько месяцев и отправился под парусом вдоль Большого Барьерного рифа и на север к Соломоновым островам.
Я взял лодку с прозрачным дном и наблюдал за коралловыми рыбками, за подводной фауной. Местные не представляли, как можно на ночь глядя выходить за рифы в такой маленькой лодке. Они думали, что я псих. Возможно, они были правы. Когда-нибудь я сделаю то же самое здесь. Здесь, наверно, тоже есть на что посмотреть. Наверно, у вас тут никто еще не вылезал за рифы. Все так заняты добыванием металлов…
— Тогда расскажи, что ты там видел.
— Расскажу.
Он выставил руку под дождь и набрал горсть воды. Несколько минут прошло в молчании.
— Однажды у нас случилась перестрелка на бледе — то есть в пустыне. Пятеро нас, полдюжины рабочих. И вдруг в самый разгар боя наползли тучи и ливануло как из ведра. На Ашкрофте дождь по большей части испаряется, не долетая до земли, но в тот день был ливень, настоящий гнев Господень. Сверкали молнии, вади наполнились водой, и в них бурлило, как в узком заливе в час прилива. Мы все сбились в кучу на одном холмике, мокрые, продрогшие, несчастные. И обратно вернулись все вместе — рабочие и мы.
— И там был Исаак, да?
— Да. Если бы не этот дождь, я убил бы его или он меня, и нам было бы все равно.
— Вряд ли, — сказала Ханна, нахмурившись.
— Песчаные пустыни мне нравились, — сказал он, помолчав. — Барханы похожи на морские волны. Большие барханы стоят на одном месте по нескольку веков, лишь немного нарастая в одном месте и убывая в другом. Они изгибаются, как прекрасная женщина, что нежится на солнце. А по барханам ползет песок, словно поземка.
— А какого он цвета? — спросила Ханна.
— Песок — желтый. Пыль — красная, всех оттенков, от бледно-розового, как твои руки, до густокрасного, как бычья кровь. Такыры — коричневые и такие гладкие, что песок скользит по ним, как по стеклу. Это неглубокие низинки, куда веками стекает вода и высыхает, а пыль и ветер шлифуют их до блеска. Камни — черные, железо и окислы марганца. Местами попадается голубое и серое — там, где стоят остатки скал, источенных ветрами. Может, есть там и другие цвета; но я помню эти.