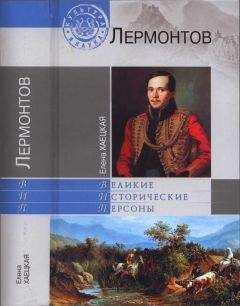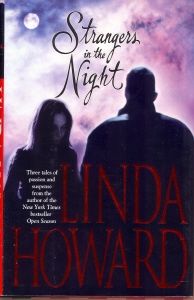И тут я увидел аббатство. Ворота стояли открытыми, а внутри ходили люди, одетые, как монахи. Я вошел, потому что вспомнил, как сам жил в монастыре, — по крайней мере, там меня кормили! Сперва никто меня не замечал, но чуть позже — я даже не понял, когда и как это началось, — они сгрудились вокруг меня, стали дергать за одежду и волосы, засовывать пальцы мне в нос и в уши, и наконец один, весь так и кишевший вшами, закричал, что я — настоящий. Это их весьма обрадовало. Они заплясали и завертелись, а после подхватили меня под руки, сунули мне книгу и велели читать по ней и писать в ней.
Я не захотел писать, потому что все мои письмена были бы слишком горькими, а это место, как мне представлялось, и без того обладало некоей горечью. Поэтому я нарисовал нечто поверх какого-то ученого трактата о разлитии желчи и исцелении путем наложения камня безоара на разные части тела. Должно быть, пальцы предали меня, потому что я хотел нарисовать что-нибудь совсем простое, а получилось изображение той корриган.
Жизнь моя в монастыре превратилась с той минуты в пытку. Я не хотел ни есть, ни пить, хотя мне предлагали миски с пережеванной травой (у них для того имелся специальный брат-жевальщик, очень почетная должность, особенно если учесть, что у большинства монахов в той обители нет собственных зубов). Они ставили передо мной еду и питье в берестяных коробах и глиняных черепках. Они пьют смолу деревьев, если вам это интересно.
Но я ни к чему не притрагивался, а только смотрел на изображение корриган и плакал. Тогда они решили изгнать меня. Для того собралась целая толпа монахов. Они предстали передо мной, приплясывая на месте, стуча себя в грудь или выдирая из головы остатки волос; судя по их поведению, я заключил, что они страшно взволнованы и рассержены.
Один из них заговорил и сказал так: «Почтенный отец настоятель, братия очень недовольны. Ах, дорогой наш аббат, как ты мог столь жестоко поступать с нами! Ведь мы живем без наставлений уже несколько столетий, и все по твоей милости. Ты забрал нашу книгу и не желаешь читать ее нам. И сами мы лишены возможности читать ее. Не так было при прежнем настоятеле, не так. Либо ты изменишься прямо сейчас и станешь для нас добрым пастырем, будешь читать нам книгу и говорить всякие наставления, либо мы выведем тебя за пределы обители, в большой мир, где обитают люди, и корриганы, и всякие звери, и другие существа нам на погибель».
Я долго смотрел на них, пытаясь понять, достаточно ли люблю их для того, чтобы навсегда остаться с ними. Наверное, я предпочел бы истлевать за прочными стенами аббатства до тех пор, пока не появится еще какой-нибудь новичок, чтобы занять мое место. Но тут мой взгляд упал на рисунок — несчастливое мгновение! — и я так страшно затосковал по моей возлюбленной, что вскочил, выронил книгу и закричал другим аббатам: «Уводите же меня отсюда скорей!»
Они громко заплакали, потому что жалели меня, но не решились нарушить мою волю — ведь я до сих пор еще считался их главным аббатом! Их мозолистые руки ухватили меня за локти и поперек живота и потащили прочь. Они выволокли меня за порог и вышвырнули вон, и все это время они рыдали и скорбели обо мне.
Я лежал на земле и смотрел, как обитель исчезает. Казалось, я убегаю от аббатства, несусь прочь со всех ног, хотя на самом деле я просто лежал, опершись на локоть, и не трогался с места. А обитель, напротив, пришла в движение и торопливо отплывала прочь.
И только тогда, мой господин, и никак не раньше, я догадался о том, что должен был понять с самого начала. Я все-таки попал на корабль мертвецов, как и мечтал, когда ушел из Керморвана.
— Как это? — спросил сир Ив и поежился. — Неужто и я побывал среди мертвецов и призраков? Но ведь мы оба с тобой живы, а ты даже стал моложе, хотя не утратил памяти и о прошедших годах!
— Это был особенный корабль, — сказал Эсперанс. — Да, мне следовало сообразить раньше, я ведь столько всего в жизни перевидал и перетрогал собственными руками! Те, прочие темные суда, скользят по водной глади и исчезают в тумане, когда влажная мгла поднимается над морем. Но этот некогда был выброшен на берег… Вероятно, он угодил в бурю и не смог удержаться на воде. Такое происходит, хотя и очень редко. Мне доводилось слышать о кораблях, по недоброй случайности оказавшихся в густом лесу: мох свисает с их мачт, опавшие с деревьев листья густо облепляют паруса, животные устраивают себе логова в трюмах, и весь груз, бывший на таком корабле, превращается в прах, равно как и экипаж, истлевающий в глухой чащобе, скрытно от посторонних глаз.
— По-твоему, аббатство безумцев — такой корабль? — переспросил сир Ив.
Эсперанс кивнул:
— Да; и он не рассыпался на куски, как это происходит с подобными кораблями, но сделался таким же призрачным, как и те, что мелькают иногда в морском тумане, — и точно так же служит пристанищем для людей, умерших в отчаянии…
— Или для живых, готовых умереть, — задумчиво подхватил Ив. — Оттого мы с тобой и остались живы, что вовремя покинули его. Не хотелось бы мне впасть в такое отчаяние, чтобы повстречать его снова. Однако продолжай, Эсперанс! Что случилось с тобой после того, как аббатство уплыло от тебя по опавшим листьям и скрылось в лесу?
— Я остался один и долгое время не хотел вставать и вообще что-либо делать; но затем меня охватил лютый голод, да такой яростный, что я вскочил и бросился бежать, а голод гнался за мной и кусал меня за бока, за пятки, но пуще прочего нападал он на мое горло и мой живот. Так я мчался и вдруг понял, что бегу очень быстро…
— Но что в этом удивительного? — возразил сир Ив. — Ты ведь спасался от голода — одного из самых страшных врагов человека! Ничего странного нет в том, что ты скакал, точно перепуганный олень.
— В том-то и дело! — сказал Эсперанс, посмеиваясь. — Слишком быстро. Слишком легко. Лишь пробежав несколько лиг по лесу я понял, что снова стал молодым. Аббатство перепутало мое время. То, что прежде было вытянутой ниткой, превратилось в клубок. И я испугался… Хотя собственная молодость — не такая вещь, чтобы ее пугаться, так что страх мой длился недолго. Коротко говоря, я вышел к людям и так слезно попросил у них корку хлеба, что мне вручили целый каравай, да еще и проследили за тем, чтобы я не умер от обжорства: поднесли разбавленного вина, вытерли со лба пот и со щек — чумазые слезы… Так я начал жить с начала. А когда такое сваливается тебе на голову, непременно следует понять, ради чего оно происходит.
— Почему? — спросил сир Ив. — Разве жизнь не обладает ценностью сама по себе? И разве молодость — не прекрасная вещь? Клянусь головой, она так хороша, что смысл ее — просто в том, чтобы быть молодым, быстро бегать, много есть и нравиться женщинам.