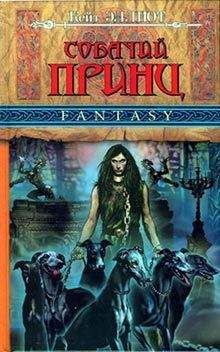Братья смеялись над ним и презирали его. Они считали это поручение наказанием. Разве не выказал он свою слабость, позволив Мягкотелым, захватить себя в гиен? Разве не является признаком слабости то, что он носит на груди это колечко, знак Бога Мягкотелых?
Он знает, что Кровавое Сердце, поручив ему это дело, хотел наказать его. Отосланный на север, в страну Староматери и Мудроматерей, он не добудет славы и не принесет богатой добычи, как если бы отправился в рейд к югу от юрода, который Мягкотелые называли Тент и который Кровавое Сердце переименовал в Хундзе, что означает «как, собаку».
Но его братья не способны видеть далее двух шагов вперед. Они не понимают, и он им не сказал, что носит он этот круг не потому, что верит в Бога Мягкотелых, а как знак связи с Аланом Хенриссоном, освободившим его. Они не понимают, что их брат, возвращающийся в немилости на север, схватит за горло мятежных вождей.
Однажды придет день, когда Кровавое Сердце умрет, как умирают все самцы. Это Старомать застывает, стареет и отходит во фьолл Мудроматерей. Вместе с матерями и праматерями, прапраматерями она размышляет о прошлом и будущем, о звездах, рассеянных, словно мысли, по фьоллу небес, высоко на склоне, слишком крутом для ног смертных.
Кого будут знать и помнить вожди, когда умрет Кровавое Сердце? Тех, кто разгуливает по южным странам, грабя и сжигая деревни, далеко от дома? Или того, кто ворвался в их дома и ограбил их, отобрал золото и убил рабов? Того, кому они вынуждены в знак покорности подставить обнаженные глотки?
Его внимание привлекли стоны и всхлипывания, доносящиеся из толпы рабов. Собаки беспокоятся, но он больше не кормит их мясом рабов. Он усвоил от Алана: первое побуждение не должно управлять твоими поступками. Дети Скал сидят на веслах, гребут и следят за его движениями с горечью во взглядах. Они хотели бы бросить ему вызов, но не осмеливаются. Им не подняться до уровня детей Кровавого Сердца. Они из других гнезд, из других долин; они рождены служить Кровавому Сердцу и его гнезду. Не могут они бросить ему вызов.
Но они внимательно наблюдают. Он не имеет права показывать слабость, иначе они не станут подчиняться ему, когда придет время обуздать мятежных вождей, которые не желают признавать верховную власть Кровавого Сердца. Они не привыкли подчиняться кому бы то ни было и не понимают, что значат интересы всей империи. Для него оставалось загадкой, как они сумели превратиться во взрослых самцов. На этот вопрос могут ответить лишь Старомать или Мудроматери.
Он отходит от носа ладьи и идет по раскачивающемуся на волнах судну. Его манят высокие волны, они помогают дышать. Надвигается шторм.
Он останавливается на корме, где сгрудились рабы. Жалкие создания. Один, бородатый, как и все взрослые самцы, бросает на него вызывающий взгляд, но через мгновение, опомнившись, опускает голову в ожидании смертельного удара. Другой на его месте убил бы за такой взгляд, но он умнее.
Береги сильных. Со временем они могут пригодиться.
Он наклоняется и прижимает кончик своего когтя к уголку глаза наглого раба, крепко, но не нанося вреда. Он как бы говорит: «Я заметил тебя».
Рабы расступаются в стороны, перед ним остается самка средних лет с изможденным лицом, от нее исходит неприятный запах крови и испражнений. Ему знакома эта болезнь. Каждый Мягкотелый, от которого начинает исходить такой запах, умирает через два-три дня мучительных страданий. Некоторые его соплеменники заключили в этом случае пари, сколько проживет страдающая самка. Но он заметил, что этой болезнью, если не принять меры, могут заразиться и другие. И разве для этого жалкого существа будет лучше, если он оставит его страдать на палубе?
Конечно, он не собирается пачкать свои когти в ее нечистотах. Он достает копье, острие которого направляет под левую грудь женщины. Она стонет, обхватив руками живот. Остальные молча расступаются. Они боятся его. К тому же они знают, что она все равно обречена. Даже молитвы их не помогут ее спасти.
Еще один урок, который преподал ему Алан: быть милосердным. Резкий удар — копье насквозь пронзило тщедушное тело.
* * *
Задыхаясь, Алан схватился руками за грудь. Боль отступила, когда Ярость и Тоска проснулись и начали лизать ему руки. Такой реальный сон! Вообще-то, сны о Пятом Сыне всегда были реальны. Много месяцев назад они скрепили свой союз кровью, эти узы разорвать невозможно. Он видел глазами Пятого Сына и знал его мысли. В эти часы сна он жил в твердой, как сталь, коже Пятого Сына.
Вздрагивая от отвращения, он терпел прикосновения двух черных псов. Отвращение сменилось стыдом. Кто дал ему право судить другое существо, даже Эйка?
В другой части палатки, отделенной полупрозрачной тканью, вспыхнул свет.
Отец.
Отодвинув занавеску, со свечой в руке заглянул граф Лавастин.
— Алан! Ты кричал во сне.
Алан опустил ноги на пол и посмотрел на отца. Сейчас, когда на графе ночная рубаха и полотняные подштанники, можно не вставать. Лавастин отпустил занавеску и подошел к Алану.
— Что с тобой? — Он потрогал рукой щеку сына. Этот жест нельзя было назвать лаской, но забота отца тронула Алана.
— Ничего страшного. Просто дурной сон.
Ужас выскочил из-за занавески и, играя, набросился на Ярость. Лавастин дал шлепка обоим, и псы спокойно уселись рядом, не сводя глаз с хозяина.
— Ты беспокоишься о предстоящем бое?
О Владычица, сон заставила Алана забыть о предстоящем на заре сражении.
— Нет, меня мучат сны о принце Эйка.
Лавастин зашагал но палатке. Ужас зевнул, потянулся и собрался было последовать за хозяином, но, убедившись, что тот никуда не уходит, улегся на место.
— Моего гнева не бойся, Алан. Ты был со мной честен, я простил тебя за то, что ты отпустил дикаря. Ты опасаешься, что этот принц будет среди них и, если понадобится, ты не сможешь его убить?
— Его там не будет. Отец отправил его обратно на родину, чтобы обуздать непокорных вождей, принудить их подчиниться Кровавому Сердцу.
Еще не успев закончить, Алан понял, насколько странно звучат его слова. Лавастин обернулся. В тусклом свете свечи можно было различить на его лице подобие улыбки, не выражавшей, впрочем, ни душевного тепла, ни удивления.
— Сын, — он в последние месяцы это слово часто употреблял, — если это так, то твои сны уже не сны, а видения. Я прошу тебя никому не говорить о них, кроме меня. В особенности дьякону или еще кому-нибудь из церковников.
— Почему?