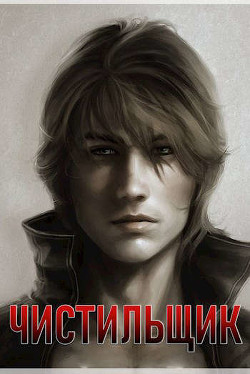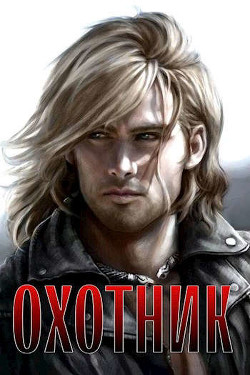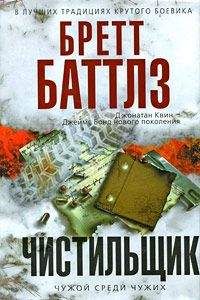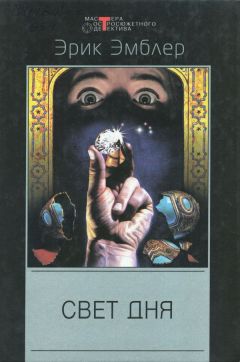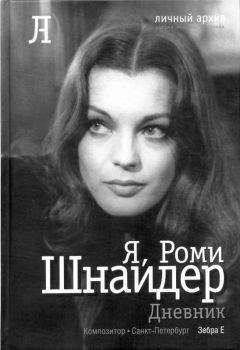— Пожалуйста, господин…
— Поцелуй — пропущу. Но можешь через забор перелезть, ловить не стану.
Куда ей через забор, в юбках, да хромоногой? Эрик поморщился: вроде ничего особенного, но смотреть было неприятно. Собрался встать, но на колено легла ладонь Ингрид, легонько сжав. Он оглянулся: девушка едва заметно покачала головой — мол, не вмешивайся. Может, ничего и не случится.
Герд быстро клюнула Гейра в щеку, дернулась было назад, но тот перехватил за талию, притянул к себе — девушка пискнула — впился в губы, придерживая затылок: и захочет — не вырвется. Наконец, оторвавшись, потянул в темноту под деревьями палисадника, на ходу облапывая грудь.
— Отпустите, господин, — всхлипнула Герд. — Пожалуйста…
— Хорош ломаться. Скажи спасибо, что на тебя, убогую, вообще глянули.
Эрик встал, шагнул ближе.
— Она не хочет с тобой идти.
— Отпусти ее, — поднялась с завалинки Ингрид.
— Да ладно, что вы, тоже… Ничего ей не сделается.
— Она не хочет с тобой идти. — повторил Эрик.
— Не хотела бы — отказалась, когда к нам прислали. Все равно замуж ее никто не возьмет, а так хоть узнает, что такое мужик.
— Еще слово — и ты узнаешь, что такое кулак в челюсть. — сказала Ингрид.
— Пробовал, спасибо, — хохотнул Гейр. Оборвав смех, уставился на нее неверящим взглядом. — Ты серьезно?
— Более чем.
— Вот же… — он выругался, выпуская Герд из объятий.
Эрик ожидал, что она ринется прочь, но девушка так и застыла рядом, дрожа и всхлипывая.
— И сам не гам, и другим… — Гейр пристально оглядел их, скабрезно ухмыльнулся: — Или вам она самим глянулась? Мордашка-то ничего. Так сказали бы, можем и вчетвером…
Эрик дернулся, но Ингрид придержала его за плечо.
— Иди себе.
Тот выругался, но больше перечить не стал. Хлопнула, едва не слетев с петель, дверь.
Ингрид тронула Герд за руку:
— Пойдем, провожу.
Та дернулась, замотала головой.
— Никто тебя не тронет, — сказал Эрик. — Пойдем.
— Староста узнает — прибьет, — прошептала Герд. — Он велел не перечить, а то чистильщики озлятся, и всем несдобровать.
Она снова всхлипнула.
— Откуда бы ему узнать? — пожала плечами Ингрид. — Пойдем, тебе вставать рано. А за Гейром мы приглядим, не бойся.
Герд утерла глаза передником, захромала прочь. Ингрид подставила локоть, предлагая опереться, но та лишь шарахнулась. Эрик двинулся за ними, чуть приотстав. Он помнил, куда идти. Пять домов до улицы, потом налево — деревня была большой и многолюдной — еще два дома, проулок… Мать у Герд умерла, рожая ее, но отец женился второй раз почти сразу. Сколь Эрик помнил, мачеха родила еще двоих, и на подходе маячил еще один ребенок. И ни ей ни отцу не было никакого дела до убогой — лишний рот, от которого мало проку. В огороде возиться туда-сюда, да по дому приглядеть, а за младшими уже не поспеет, едва чуть подрастут: и правда, старший из рожденных мачехой сыновей удирал от нее играючи — а малолетней няньке потом доставались колотушки.
Ноги словно несли Эрика сами, вот поворот, дом, другой… он замер, вглядываясь в полоску света между ставнями. Ингрид замедлила шаг, обернулась.
— Идите, я догоню, — сказал он.
Глава 21
Глупость несусветная, что он здесь забыл? Он ведь так хотел вычеркнуть их из памяти. Эрик всмотрелся в сумерки: многое ли изменилось? Действительно, отстроились, этот дом был просторней и выше, чем он помнил. Птичник, хлев, амбар — все крепкое, добротное: ни тебе гнилых досок, ни покосившихся дверей. Ровные грядки огорода. А яблоню, что росла у окна, все же срубили, как отец и грозился много лет назад — стара, мол, больше не родит. Да и мешала, поди, когда дом перестраивали. Наверное, так было правильно, но старое дерево почему-то было жаль. Эрик любил прятаться в его ветвях — если залезть повыше, земля исчезала, и, казалось, в целом мире только он, зелень листьев и небо. А как пахли цветы по весне…
Зачем он сюда пришел? Надо бы развернуться и догнать Ингрид, но ноги словно вросли в землю, а руки сами потянулись, открывая калитку. Зашелся лаем цепной пес, и тут же затих: пусть поспит, чтобы зря не брехал.
Хлопнула дверь, из хлева появилась женская фигура — в одной руке деревянный подойник, в другой свечной фонарь. Замерла, словно почувствовав взгляд. Опустила подойник на землю, шагнула к забору, поднимая фонарь. Эрик отпустил калитку. Зажег светляк у самого лица, чтобы можно было его разглядеть. Он вырос, или она стала ниже? Дородная, статная, хорошо, видно, живут. Морщин прибавилось. Но как он ни вглядывался в глаза, не смог заметить даже тени тепла.
— Зачем ты пришел?
Узнала. Староста не узнал, и остальные тоже…
— Посмотреть, как живете.
— Зачем?
Эрик пожал плечами: самому бы понять. Он так старался забыть их лица, что почти получилось.
— Может, чем-то помочь.
Хотя чем он может помочь, на самом-то деле? Если отец уже не справляется с чем, так зятья есть. Да и батрака прокормить сможет. А он сам — как явился незваным, так и уйдет, едва Альмод встанет на ноги. Помощничек…
— Уходи.
— Вот она, материнская любовь, — усмехнулся Эрик. — А болтают-то…
Он бы хотел найти в себе хоть тень нежности, признательности… что там должен чувствовать выросший сын к стареющей матери? Но сколько ни копался в душе, не мог обнаружить ничего, кроме горечи. И правда, зачем он пришел?
— До чего же ты на него похож, — медленно произнесла женщина. — Чем старше, тем сильнее.
А, может, он просто хотел узнать, что его не забыли? Что ж, узнал. Эрик усмехнулся:
— Что, неловко вышло? Болтается этакая памятка: ни в мать, ни в отца — в заезжего молодца; глаза мозолит. Проще с рук сбыть, да сделать вид, будто не было.
— Чтобы потом как сыр в масле катался, а все ему кланялись. Экое горе, Жалеешь, поди.
Было бы лучше, не окажись у него дара? Пахал бы землю, как все, гнул спину перед благородными и залетными одаренными, да боялся, кабы чего не вышло. Неужели он просто капризный ребенок, не желающий видеть собственного блага?
— Нет, не жалею, — медленно произнес Эрик.
Не было бы у него дара, не пришлось бы сегодня мысленно прощаться с жизнью. А что обошлось — так просто повезло. Когда-нибудь не повезет. Но пока — все кланяются, и правда. И золота можно не считать.
— Не жалею, — повторил он. Что бы там ни было, свой дар он не променял бы ни на что. — Только и вам грех жаловаться: отстроились, вон. Девок замуж выдали, слыхал, что удачно.
— С паршивой овцы…
— Деньги, поди, руки жгли.
— Эти — нет. А вот тот, первый, золотой…
— Щедро — за деревенскую-то бабу. Расстаралась?
Пощечина обожгла лицо, в голове зазвенело. Рука у нее всегда была тяжелая. И не боится ведь, что чистильщики озлятся. Или по старой памяти уверена, что ничего он ей не сделает? Так ведь и правду не сделает. Хотя чего себе-то врать, слова могут язвить не хуже ножа, а он только что постарался ударить побольнее. За то, что самому сейчас хотелось выть в голос.
— Очень старалась, — ощерилась женщина. — Зенки блудливые выцарапать старалась, да не вышло. Золотой потом бросил — радуйся, холопка, что до тебя такой человек снизошел.
Ах, вот оно что… И в самом деле, за что его было любить.
— Надо было вытравить, — усмехнулся Эрик. — И золотой остался бы, и с пащенком возиться бы не пришлось.
— Травила, да живучий оказался.
Он на миг прикрыл глаза. Растянул губы в улыбке. Опустился на колени, коснувшись лбом земли.
— Что ж, спасибо. Вырастили, пристроили.
А что он не просил, чтобы его зачинали — так кто о том просил?
— Не юродствуй.
— Что ты. — Он выпрямился, все еще стоя на коленях, глянул снизу вверх, как когда-то. — Я совершенно серьезен. Могли ведь и приспать.
Приспать, оставить в сенях на холоде, пока не посинеет, не кормить, сунуть иголку в родничок — да мало ли способов? Эрик мысленно поежился и продолжил вслух: