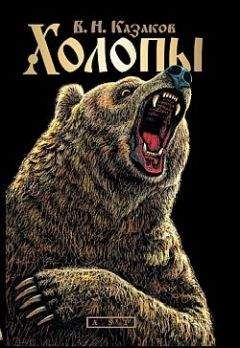– Каким еще стражем? – насторожился племянник. Он всегда сторонился и побаивался всякой чертовщины и непонятностей.
– Ихним стражем. Охранительницей великих врат Беловодья. Немного, говорят, живет этих Стражей среди людей, но силы им неимоверные даны и смерти они не имут. Есть одна стара побасенка, как устренить Стража, надобно на колени припасть и, достав из пазухи голыш-камень, взять его в леву руку и кинуть в того стража со словами: «От сердца мого, тепло тела мого, крепость духа мого, тебе в помочь!» Ежели мимо пролетит каменюка али угодит в того, знать, не он. Мот, туман горный чего накуролесил, мот, Деница охмурил, али просто путник какой навстретился. А как перестренет он твой камень левой же рукой, стиснет, да так, что пыль полетит по ветру, знать, истиный Страж пред тобой и дар твой, и помощь твою восприял. Ну, прощевай, что ли? Свидимся али не свидимся, никому не ведомо, а кровинку родную рада была узреть; на вота, милок, держи!
И она сунула в руку Макуты увесистый, обкатанный водой голыш. Не то атаман и впрямь растерялся, не то просто не стал перебивать родственницу, но, будь у его куреня побольше свету, посторонние бы увидели у сурового атамана по-детски растерянное лицо и глаза, блестевшие нечаянной слезой. Прошамкала бабка и канула в ночь, как и не было ее. Только шелест старухиных слов, легкий и неприметный, как она сама, еще, казалось, стоял в неподвижном ночном воздухе.
– Бей! – вернул его к реальности негромкий голос Митрича.
– Чего там? – пряча за пазуху старухин камень, отозвался Макута.
– Сар-мэн возвернулся, с недобитком и еще одним, который при бонбах состоять должон. – И словно предваряя атаманов вопрос, добавил: – Ему объяснили, что мы полные дурни и думаем, будто ен и начальник евонный – добровольные к нам перебежчики, так что при случае ты его подбодри.
– А бонбы-то иде?
– Так у нас ужо, в крайней пещерке припрятали, под надежной охраной. И ищо, из крепости гонец прискакал, сказывает, завтра пополудню войско подастся в наши края. В цитадели останется только инвалидна команда да отряд конных ханьцев. Их все опричники на кого-то науськивают.
– Так это добре, что сатанинская-то машина у нас, – пропустив мимо ушей последние слова, промолвил атаман. – А как думаешь, не рванет она сама по себе?
– Не рванет, бей, не рванет, – отозвалась темнота голосом Сар-мэна. – Я этого грамотея-висельника всю дорогу пытал. Божится, что без двух ключей ничего с этими устройствами не случится. Ты бы видел эти бомбы – два плоских вещмешка, ровно детские ранцы, с какими я в школу ходил, увеситые правда.
– Ладно, ты потиху людей уводи, которых сымаешь, и, слышь, чтобы ни один в лагерь ни ногой...
– Да нешто я не понимаю, бей... Как там молодая Званская?
– Уже знаешь? Плохая была, когда дохтур всех из будана моего попер. Но, говорит, голова целая. И какому выродку дитя наивное помешало?..
– А вы это... Еноха ейного отыскали? – спросил Сар-мэн, подходя к атаману почти вплотную, и тому показалось, что в голосе подручного звякнули какие-то недобрые нотки.
– Не, шарят еще там, у ручья, да, боюсь, без толку, мот, тело водой отнесло...
Со стороны входа, у которого продолжали толпиться люди, в основном бабы, послышались радостные возгласы.
– Чего там нового приключилось, Митрич? – шуманул Макута.
– Да все хорошо, атаман, – доложил ординарец. – Ожила барынька, пить запросила. Дохтур с Гопсихой над ейной рукой колдуют.
– Ты поди-ка, передай айболиту, пущай он у ней выведает, кто их мордовал и где ейный друг сердешный. Мот, путевое скажет.
Машу уже не единожды про это спрашивали, но голоса и сами люди, задававшие вопросы, были где-то далеко, и слова их походили на дальний звук не то трубы, не то локомотивного гудка. Девушка скорее ощущала своим беспомощным телом, чем понимала разумом, что с ней что-то произошло, страшное и необъяснимое. Любая попытка напрячься и что-то вспомнить заканчивалась резкой болью в затылке, и смутные картины реальности с нечеткими бухающими звуками проваливались в звенящую темноту. В очередной раз вынырнув из небытия, она попыталась попросить воды, и ее услышали! Ее поняли, и холодная, сладкая, как мед, влага подействовала и оживляюще, и успокаивающе, наконец начал действовать наркоз, но она не провалилась в беспамятство, а безмятежно заснула крепким сном. Спала и не чувствовала, как подшивают кожу на голове, как в деревянной от сильнейшей анастезии руке орудует доктор, как Эрми, удивляя всех, составляет ее раздробленные косточки, и они, словно смазанные невидимым клеем, стягиваются и принимают свой первозданный вид. Маше грезилась мать, будто они о чем-то все говорят, говорят и никак не могут наговориться. Потом приснился Енох, виноватый, обиженный, убегающий, а за ним, за ее любимым, бросилась вдогонку Эрми, настигла, и они исчезли за гребнем поросшего высокой травой пригорка. Ревность и обида душили ее. Плюнув на приличия, Маша осторожно, извиваясь, словно змея, поползла к пригорку. Трава прятала ее, и вот она уже у самого края, а рядом раздается утробное рычание, надо только протянуть руку и раздвинуть сухие стебли. Маша хочет это сделать, но боится, а рычание Эрми становится все громче и отчетливее. Мысли путаются, Маша не хочет верить в предательство самых близких людей и собирается незаметно уползти назад, но в последний момент неведомая сила заставляет ее, приникнув к траве, глянуть вниз, и она каменеет от ужаса. Эрми в облике не то человека, не то тигроподобного зверя рвет острыми клыками растерзанное тело Еноха; вся перемазанная кровью, она, кажется, ничего кругом не замечает. Вдруг их взгляды встречаются, Эрми улыбается приветливо и, запустив руку в изуродованную грудину, вынимает еще трепещущее сердце.
– Смотри, подруга, что колотилось в его груди! – С этими словами она швыряет окровавленную плоть на землю. Не успев коснуться начавшей жухнуть травы, сердце любимого на лету чернеет и обращается в дикий, поросший серым лишаем камень. Маша вскрикивает и перелетает в какой-то другой сон, который вскорости сменяется еще одним, потом еще, еще и так до незапоминающейся бесконечности.
Августейший Демократ играл в морской бой. Так уж исстари повелось, что сия высокоинтеллектуальная забава являлась неотъемлемой частью времяпрепровождения августейших особ. А собственно, чего ему было не играть, когда в газовой трубе полный порядок, в державе и мозгах граждан полнейший застой и всенародное процветание. У нас ведь всегда так – как застой, так народу одухотворение и блаженная радость, а все оттого, что подневольный люд начальство не тревожит и революции творить не понуждает. Как ни назови державу – что Ордой, что Московией, что Российской империей, что Союзом всех замурзанных народов, что Сибруссией, – не может она без всеобщей смуты и революционных закидонов. А уж как бунт загудит красными вихрами под крышами ни в чем не повинных домов, тут уж держись, резать начинают друг дружку соотечественники, только хруст костей над миром стоит, – вот почему всякая властная апатия воспринимается народными массами как самое что ни на есть блаженство и расцвет. Да одно жаль – недолги эти отдушины, годов от силы пятнадцать – и все, опять круговерть и кровавые потеки на обледенелых мостовых. Так что нынешнее время раем подданным казалось – ничего, что впроголодь, ничего, что убого, зато без революционного энтузиазма и войны.