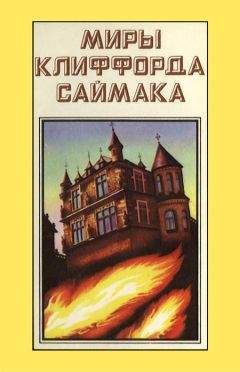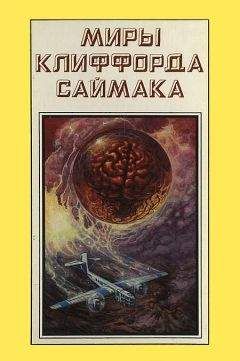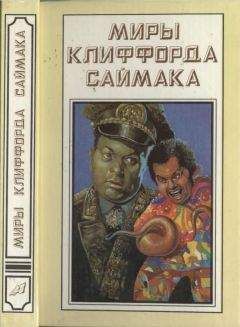— Я понял с первого взгляда, что в тебе нет зла, — сказал Конрад. — А если и есть, то его не больше, чем в гоблине или гноме.
— Некоторые верят, — вмешался Эндрю, — что гномы наравне с гоблинами — порождение зла.
— Ну уж нет, — возмутился Конрад. — Малый Народец отличается от нас, но зла в них вот ни на столечко. Да, они проказники, но никак не злодеи.
— Лично я, — бросил Эндрю, — сыт по горло их проказами. Они замучили меня чуть ли не до смерти.
— Так ты говоришь, что в темноте прячутся Злыдни? — справился Данкен у Мэг. — Почему же собака не почуяла их?
— Не знаю, — отозвалась старуха. — Может, он и чует, только не догадывается, кто они такие. А старая Мэг не настолько глупа. Ей ведомо, чего опасаться.
— Значит, ты уверена?
— Уверена, сэр.
— Выходит, мы не можем больше полагаться на чутье Крошки, — подытожил Данкен. — Нам придется всю ночь напролет нести дозор. Я стою первым, Конрад — вторым.
— А я? — воскликнул Эндрю. — Я требую, чтобы меня назначили часовым. Не забывайте, я ратник Господа! Я разделю с вами все тяготы и опасности пути!
— Отдыхайте, — посоветовал Данкен. — Завтрашний день обещает быть трудным.
— Можно подумать, вы с Конрадом не нуждаетесь в отдыхе!
— Ложитесь спать, — произнес Данкен, — а то утром, не дай Бог, окажется, что вы не в состоянии идти. Вдобавок, если вы завтра будете клевать носом, кто предупредит нас, коль мы собьемся с пути?
— Тут невозможно заплутаться, — упорствовал Эндрю. — Правда, может, это мне так кажется? Я ведь ходил туда-сюда не один раз.
— Вот именно. Ложитесь и отдыхайте.
Эндрю промолчал; позже, придвинувшись поближе к огню, он что-то пробормотал себе под нос. Видимо, уснуть ему мешала обида. Во всяком случае, лег он последним. Конрад плюхнулся на землю, закутался в одеяло и почти сразу же захрапел. Мэг, свернувшись калачиком рядом с седлом и поклажей, спала как ребенок, временами всхлипывая во сне. Поодаль улегся на траву Дэниел. Красотка спала стоя; она свесила голову так низко, что едва не задевала носом землю. Дремавший у костра Крошка порой просыпался, встряхивался и, порыкивая, обходил лагерь. Поведение собаки как будто подтверждало, что опасаться вроде бы нечего.
Данкен сидел у огня. Ему совершенно не хотелось спать. Юношу одолевали тревожные мысли, которые упорно не желали уходить. Ну, разумеется, хмыкнул он про себя, какой тут сон после рассуждений Мэг насчет близости Злыдней! Может, ведьма просто подшутила над ними? Как Данкен ни напрягал слух, как ни старался, ему никак не удавалось различить ни шелеста листвы, ни хруста веток под чьей-либо ногой, или лапой, или копытом. Все было тихо, лишь бормотал в темноте ручей да пару раз ухала в отдалении сова.
Данкен ощупал висевший на поясе кошелек и услышал слабое похрустывание пергамента. Подумать только, они забрались чуть ли не в самое сердце Пустоши ради нескольких листков рукописного текста! Между прочим, один лишь Конрад знает, за что он рискует головой; все остальные идут наобум, и что с ними станется, известно разве что одному Богу. Хрупкий пергамент — великая драгоценность, средоточие волшебства. Если будет доказано, что он подлинный, Церковь обретет свежие силы, у веры появятся новые сторонники, жребий мира изменится к лучшему. Орда творит черную волшбу, Малый Народец наводит чары, чтобы вдоволь потешиться, а этот пергамент, возможно, обладает величайшей магией на свете. Данкен склонил голову и принялся без слов молиться о том, чтобы его упования сбылись.
Тогда-то, во время молитвы, и раздался некий звук, определить природу которого было поначалу крайне затруднительно, таким он был далеким и глухим. Данкен прислушался и понял наконец, что в ночи стучат копыта. Мгновение спустя до него донесся собачий лай. Звуки по-прежнему исходили как будто издалека, но становились все отчетливее: топот конских копыт, заливистый лай собак и даже — Данкен не поверил собственным ушам — крики людей. Диковиннее всего было то, что звуки доносились с неба. Данкен запрокинул голову и окинул взглядом усыпанный звездами небосвод, с которого светила бледная луна. Там, разумеется, не было ни всадников, ни собачьих свор. Минуту-другую спустя звуки стихли, и ночь вновь исполнилась безмолвия.
Данкен, приподнявшись было, чтобы взглянуть на небо, снова опустился на землю. Крошка глухо зарычал. Данкен погладил пса по голове. Мастиф перестал рычать и улегся у костра. Какое-то время спустя Данкен встал и направился к ручью, захватив с собой кружку. Из воды, нарушив ее серебристый покой, внезапно выпрыгнула рыбина. «Неужели форель?» — подумал Данкен. Если в ручье водится форель, поутру можно будет попробовать поймать пару-тройку штучек на завтрак; главное — не слишком задерживаться: чем быстрее они уйдут отсюда, чем скорее пересекут Пустошь, тем лучше.
Когда луна начала клониться к западу, Данкен разбудил Конрада, который мгновенно вскочил, будто и не спал.
— Все в порядке, милорд?
— Да вроде бы, — отозвался Данкен. — По крайней мере, я ничего подозрительного не заметил.
Он умолчал о том, что слышал топот копыт и лай собак, ибо, прикидывая, каким образом рассказать об этом Конраду, решил, что не стоит беспокоить товарища упоминанием об игре воспаленного воображения.
— Растолкай меня пораньше, — попросил он. — Хочу наловить форели на завтрак.
С этими словами Данкен лег на спину, сунул под голову скатанный в валик плащ и укрылся одеялом. Глядя на небо, он в очередной раз ощупал кошелек на поясе и крепко зажмурился, надеясь, что вот-вот заснет. Однако перед его мысленным взором возникла — сама по себе — картина, смысла которой он поначалу не понял. Но затем явилось осознание, и Данкен, упрекнув себя в чрезмерной возбудимости, попытался отрешиться от надоедливых мыслей, однако те не желали уходить. Юноша перевернулся на бок, открыл глаза и увидел пламя костра, неподвижно лежащего мастифа и широкоплечую фигуру Конрада. Он зажмурился вновь, уверенный, что уж теперь-то заснет непременно, но картина, возникшая у него в мыслях, отгоняла всякий сон. Он снова, будто наяву, увидел пронырливого коротышку, что следовал по пятам за горсткой людей, внимая словам тех, кто сопровождал высокого человека весьма благообразной наружности. Все эти люди были молоды и не по годам серьезны, глаза их лучились странным светом. Судя по одежде, поношенной и драной, они принадлежали к простому народу. Один из них был обут в сандалии, другие ходили босиком. Порой вокруг них собирались толпы зевак, пришедших поглазеть на высокого человека и послушать, что он скажет. И постоянно возле молодых людей — то ли в толпе, сквозь которую норовил протиснуться поближе, то ли в одиночестве, когда толпа рассеивалась, — крутился тот самый коротышка. Он прислушивался столь усердно, что уши его, казалось, того и гляди отвалятся; похожие на лисьи, блестящие глазки щурились от солнечного света, но не упускали ни единого жеста, ни малейшего движения. А потом, вечерами, прижавшись спиной к валуну или скорчившись у костра, коротышка записывал все, что видел и слышал. Он писал мелким убористым почерком, стараясь уместить слова на тех кусках пергамента, какие ему удалось раздобыть, хмурил брови и поджимал губы, вспоминая, что именно и кем было сказано.