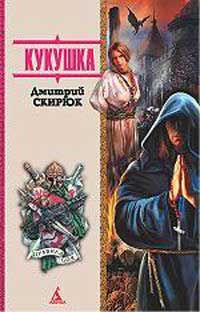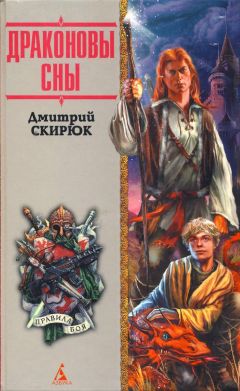Так что же, значит — будут прощены, станут едины и пребудут, но — каждый на своих местах?
А может, так и должно быть? Может, правы те пророки и ересиархи, кои учат, будто души дважды (и многажды) возвращаются назад, чтобы пройти закалку в новом пламени, духовно вызреть в холоде и мраке середины мира, как вино в бочонке, чтоб вернуться совершенными, и в этом «созревании» есть приближение к богу, понимание вершин? Не значит ли это, что мы все — Его составные части и духовная эволюция всех существ во Вселенной закончится одновременно?
В каждом есть зародыш бога, зёрнышко огня. Как дать ему прорасти?
Я рассуждаю о Создателе, как будто он на самом деле существует, в то время как на самом деле мне это неизвестно. Если я представлю серебряный талер у себя в кармане, это вовсе не значит, что в кармане у меня и впрямь лежит серебряный талер. Но талер суть предмет материальный, и одним движением мысли вряд ли можно его овеществить, в то время как Господь — явление из мира идей, а стало быть, и мыслей. Быть может, представляя себе бога, думая о нём, мы создаём его, а создавая — представляем. Другое дело, можем ли мы познать и осознать столь грандиозную Идею во всей её полноте. Что за бог рождается из наших куцых мыслей и мыслишек, подкреплённых бесконечными жертвами? Не в том ли суть, что осознав его Идею дo конца, мы были бы способны заново создать, а может — и преобразить Всевышнего, как были бы способны материализовать в своём кармане талер, когда б мы досконально знали, ЧТО такое талер, а не просто — тупо вожделели отчеканенного серебра...
Ах, соблазнительная мысль! Пойду-ка я взгляну — нет ли у меня в кармане талера...
Ох горе — нет там никакого талера: у меня в кармане дыра.
Я запутался. Я ищу переполненность, но я не источник, я — веретено. Как это выдержать? Как сбросить намотавшуюся силу? Как вообще получилось, что всё это сосредоточилось на мне? Каким броском Судьбы я оказался в этом странном положении? Вопросов с каждым днём всё больше, а ответов нет.
Эта девица слаба, но, может, только её слабость и сумеет совладать с Силой, ибо я не могу. Я — слаб своею силой. Она сильна своей слабостью. Здесь бесполезно объяснять. Беда, коль всё это уйдёт на воплощение ещё одной религии или на новую безумную войну.
Да минует меня чаша сия.
— Господин Золтан! — позвал от окна толстяк Иоганес Шольц. — Господин Золтан, подите-ка сюда.
Золтан Хагг с недовольным лицом оторвался от исписанных страниц:
— Иоганн, я же сказал, чтобы ты не отвлекал меня. И потом, сколько можно повторять: называй меня...
— Да погодите вы ругаться! — замахал руками Шольц. — Лучше идите и посмотрите, а то я никак не возьму в толк, что там у них такое творится...
Золтан подошёл к окну, некоторое время всматривался в сумрак за стеклом, потом растворил створку и высунулся наружу. На лице его отразилась целая гамма чувств: тревога, гнев, неудовольствие и, наконец, растерянность.
— Шайтан, что они там делают? Это же в том доме, где держат девчонку!
— Вот именно, господин Хагг, вот именно! Я хотел вам раньше сказать, но я не думал...
— Напрасно. Думать иногда бывает полезно.
Золтан сорвал со спинки стула куртку палача, просунул руки в рукава и торопливо начал шнуроваться.
— Подай мне меч.
Иоганес был сама готовность к действию и всё-таки изобразил вопрос:
— Какой меч?
Золтан замер, не закончив движения.
— Ты прав, — сказал он, — об этом я не подумал.
Превратить в тюрьму больничные покои — оказывается, что может быть проще! Сперва из монастырской кельи вынесли лежак и табуретку со столом. Воду из кувшина выплеснули за окно, нарочно выбив треснувшие стёкла, потом разгрохали и сам кувшин. Остаток дня и вечер девушка вынуждена была провести в молитве, стоя на коленях, — стражники не позволяли ей ни встать, ни лечь, а когда накатывала дурнота, без всякой жалости угощали оплеухами. Холодный земляной пол усеивали черепки разбитого кувшина, ноги у девушки к вечеру распухли и почти отнялись. Когда ей наконец разрешили лечь, она едва нашла в себе силы отползти в угол. Весь день Ялка только и могла мечтать о том, чтоб повалиться на пол и забыться, однако сон не пришёл. Земляной пол был холоднющий и сырой, власяница — короткой, грязной и кусачей, от кандалов окоченели ноги. Колени девушки превратились в два сплошных синяка, тело ныло после ударов и уколов. Непривычно и противно мёрзла обритая голова. Сидеть было теплее, чем лежать. Содрогаясь от холода и боли, кутаясь в колючее рубище и подгибая ноги, Ялка вжималась в стену в напрасной попытке согреться, но дымоход был холоден — камин в соседней комнате больше не топили. Она смотрела на своё узилище, которое отсюда, из угла, казалось ей огромным. Стены, сводчатый потолок, окно, геометрические, верные углы... Раньше эта комната казалась ей небольшой, даже тесной — два на три шага. Теперь, когда исчезли все предметы обстановки, келья обрела пугающую высь и глубину. Зачем? Что делать измученной пленнице с таким количеством пространства? Девушка напоминала мышь, забившуюся в угол мышеловки. Ужас и отчаяние в её душе постепенно сменили пустота и безмыслие; темнота и холод исподволь доканчивали то, что не успели доделать усталость и боль, — реальность всё больше становилась похожей на кошмар. От забытья, которое временами снисходило на пленницу, оставались видения и голоса — холодный бред, который не осмысливала голова и не воспринимало сердце. Поэтому Ялка не сразу поняла, что за дверью её камеры в самом деле о чём-то говорят.
А когда поняла, насторожилась.
Бывало, что стражники и раньше трепались от скуки, даже пытались заговаривать с пленницей, но не так, как сейчас: сейчас эти голоса в коридоре звучали раздражительно, даже гневно. До утра было ещё далеко. Ялка заставила себя сосредоточиться и вслушаться, а потом, придерживая цепь, чтоб та не звякала, на четвереньках подползла к двери.
— ...а я говорю, что я вас не впущу, — втолковывал кому-то маленький испанец (Мануэль Гонсалес его звали, или как-то так — Ялка распознала его по голосу). — У меня приказ! Не понимаю, Алехандро, ты-то как с ним тут оказался? Что вы замыслили?
— Мануэль, hombre, ты, должно быть, с ума сошёл, — принялся увещевать его какой-то незнакомый голос — развязный, пьяный и тоже с испанским выговором. — Ты неужели не помнишь меня? Неужели не узнал?
— Убери руки... Конечно, я узнал тебя, Антонио. Но даже то, что ты нажрался как свинья, тебя не оправдывает. Есть приказ отца Себастьяна, и я его выполняю.
— Ба! — вскричал поименованный Антонио. — Приказ! Да клал я на его приказы! Fraile, padre, sacerdote[60], знаем мы, об кого они чешут хрен! Приберёг небось телушку для себя. Пусть портит мальчиков. Она же ведьма, hombre, понимаешь? Una Bruja. К ней, наверное, и так приходит искуситель, так разве я не лучше искусителя? А? Вот что я скажу тебе, compadre: перестань махать руками, а лучше открой нам эту дверь, хлебни винца, и пошли с нами делать дело.