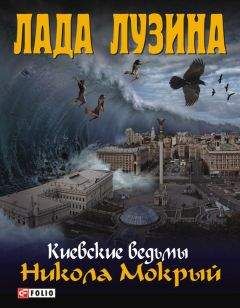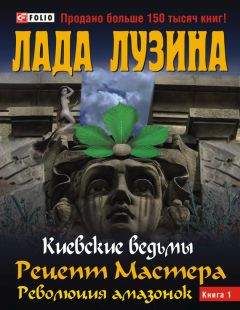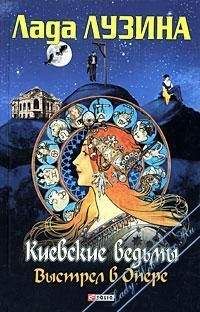…Когда наконец они стали понимать друг друга, мужчины сказали амазонкам следующее: «У нас есть родители, есть и имущество. Мы не можем больше вести такую жизнь и поэтому хотим возвратиться к своим и снова жить с нашим народом. Вы одни будете нашими женами и других у нас не будет». На это амазонки ответили так: «Мы не можем жить с вашими женщинами. Ведь обычаи у нас не такие, как у них: мы стреляем из лука, метаем дротики и скачем верхом на конях, к женской работе мы не привыкли. Ваши же женщины не занимаются ничем из упомянутого, они выполняют женскую работу, оставаясь в своих кибитках, не охотятся и вообще никуда не выходят. Поэтому-то мы не сможем с ними поладить. Если вы хотите, чтобы мы были вашими женами, и желаете показать себя честными, то отправляйтесь к вашим родителям и получите вашу долю наследства. Когда вы возвратитесь, давайте будем жить сами по себе».
…Из этого народа, как многие из нас, произошла Татьяна.
Мужчины, не обижайте кроткую киевляночку!
Евгения Чуприна. «Роман с пельменем»
— Маш, а почему на вас с Катей шляпы одинаковые? — спросила Чуб.
— Я взяла шляпу в этой квартире… И Катя может взять. Это неважно. Я все погубила!
— Из-за шляпы? — удивилась Дображанская.
— Из-за того, что я дура! Я — полная дура! — самозабвенно завыла разведчица.
Информация «Маша-дура» заинтересовала Дашу настолько, что та соскочила с окна.
Ковалева щелкнула пальцами.
Народный, громыхающе-праздничный гул сменил вой метели.
Осень — зима.
Белый колючий снег рванул в комнату, намел на паркете белый ковер, посеребрил Дашины светлые волосы. Отплевываясь от напористых, мелких снежинок, Чуб ринулась закрывать створки.
Разведчица Прошлого рыдала в унисон с зимней вьюгой:
— В том шкафу… у Кылыны… собраны штук сорок книг про Богрова. Если бы, придя сюда первый раз, я додумалась в него заглянуть… Мне не нужно было идти… мне б и так было все ясно! Но я была под «Ратью»! Под «Ратью»!
— Ну, ты фокусник! — Чуб потрясенно глядела в окно. — Это, я вам скажу, что-то с чем-то. Такая развлекаловка — аж сердце подскакивает!
Неистовство зимы, мигом залепившей снегом четыре стекла, перекрыла новость про «дуру».
— А можно еще раз так клацнуть? — попросила Чуб, восторженно взирая на зиму. — Ну, щелкни ручкой.
Но, прознав о том, что собственноручно запорола идеально-просчитанный Кылыной проект спасенья Отечества-Руси, — «фокусница» предпочла не клацать, а плакать:
— Я была не в себе. Я пошла и тупо села в коляску к Ахматовой. Я не могу к ней сесть второй раз! Не могу заставить ее замолчать, не проливать ее масло. А достаточно было отвлечь ее от стоящего в толпе Киевицкого… И все! Все повернулось бы вспять! Почему я не могла поступить, как Кылына? Выяснить все, не высовываясь на первый план, прячась под вуалью. Я все испортила! Теперь я не знаю, что делать! Как остановить Богрова? Как все отменять?
— В таком случае, — сказала Даша, косясь на недоброжелательный вид за окном, — предлагаю лечь и поспать. Все равно, ты — в кусках, Катя в зависе. А у меня из-за вас состоянье души, близкое к коме. Голова, как 95-й Виндоус! Одна с собой кончает, вторая ревет, что ей не дали нас всех прикончить. А я уже вторую ночь толком не сплю, — пожаловалась она. — Но ночь — это ладно. Я привыкшая. Но мы же и днем не спим тоже.
— Нам некогда спать! — отрезала Дображанская. — Хотя… Ну, да… Можно и выспаться.
Она вернулась к окну.
Постояла, привыкая к несказанной, снизошедшей на нее благодати:
«Не нужно никуда торопиться! Не нужно спешить. Времени сколько угодно!»
— Но время точно стоит? — спросила она. — Сколько мы можем пробыть здесь?
— Хоть всю жизнь, — несчастно сказала Маша, придавленная крушением всех своих планов и безучастием обеих подруг.
— Какая все-таки потрясающая вещь это Прошлое… — Прислонив освобожденный от мыслей лоб к заоконью, Катя с наслажденьем рассматривала заснеженный коктейль из меха, перьев и лент на проплывающей внизу дамской шляпке. — Теперь я понимаю, Маша, чего ты все время сюда убегаешь. Так потрясающе. И такой невероятный покой. Легче, чем в отпуске.
Чуб, завалившаяся спать на диван, заворочалась — что-то в районе ягодиц мешало ей жить.
— Надо же! — вытащила она из заднего кармана шортов мобильный. — Он работает!
Левый верхний угол экрана показывал крохотную вышку и пять черточек сбоку.
— Как он может работать здесь?
— Не знаю. Я вообще не знаю, как ваши телефоны работают.
Маша, усевшаяся на пол, уткнувшаяся расстроенным носом в колени, больше не желала знать ничего.
«Я погубила анти-революцию. Я — слепая, слепая…
Что теперь делать?! Взорвать памятник взорванному Гриневицким Александру II, чтобы Столыпин не ехал в Киев? Украсть у Столыпина орден Святого Владимира?
Безумие. Чушь…»
Чуб набрала Катин номер. Не отрывая взгляд от фундуклеевских шляпок, Дображанская взяла заверещавшее средство связи и слепо сбросила вызов.
— Работает!!! — восторжествовала Чуб. — Кому б позвонить? — Подумав, пальцы выдавили привычную дробь. — Алло, ма? Это я. Ты меня слышишь?! Землепотрясно! Ложишься спать? Ночь? А сколько у вас? В смысле, сколько сейчас времени? Она еще спит? Алло, алло, алло! Прервалось… — Даша перенабрала. — Тю! Теперь занято! С кем она разговаривает?
— С тобой, — сказала Маша. — Я отследила: уходя в Прошлое в 13.01, мы возвращаемся ровно в 13.02. Мы словно делаем порез на времени. И длина этого пореза — минута.
— Не въехала, — напряглась Чуб.
— И эту минуту ты уже выговорила! Не хочу объяснять.
— Хренотень, — заключила Землепотрясная Даша, так и не уразумев технологию чуда. — Мы с мамой и поссориться не успели. А наша поэтесса все еще спит. С тех пор, как мы спасли ее, прошло меньше суток. А кажется — год… Кстати, а что мы с ней будем делать, когда она проснется? Или она нам по барабану? Мы не будем для нее Лиру искать?
— Для нее? — За минувшие сутки, вместившие в себя не год, а многообразные столетья и годы, Маша успела напрочь забыть про повесившуюся из-за Анны Горенко Голенко, выведшую их на историю Лиры.
— Ну она же считала, что Лира должна достаться ей. А Ахматова ее вроде как сперла. И потому в стране нет литературы, — приподнявшись на локте, Даша уставилась на студентку-историчку. — А где вообще эта Лира сейчас? В нашем времени?
— Откуда я знаю! — озлилась историк.
— А ты уверена, — спросила Чуб, — что это неважно?
В этом Маша уверена не была.
Потому, выплыв из глубин самоедства, встала и пошла к книжному шкафу.