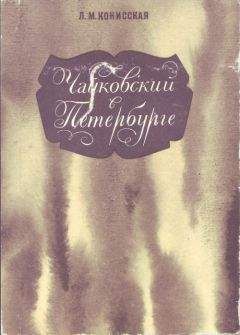«…„Евгений Онегин” имеет успех; сборы великолепные…
В общем итоге Петербург доставил мне много счастливых минут и сладостное сознание настоящего успеха…»
И жене Анатолия (уже с дороги за границу) Чайковский писал: «…в общем мое впечатление от «Онегина» в Петербурге очень приятное. Я никак не ожидал, что эта опера может так нравиться массе. Во всяком случае первые четыре представления были блестящие, и сердце мое радовалось. Благодаря этому и теперь я очень приятно себя чувствую… на душе легко при воспоминании об успехе оперы, которую я люблю больше всего мной написанного».
Совсем непохоже это радостное письмо на прежние письма композитора. Однако в нем есть и такая фраза: «Впрочем, нечего ранее радоваться, посмотрим, что дальше будет».
А дальше все было тоже очень хорошо.
Главный режиссер петербургских императорских театров Г. П. Кондратьев, который по поручению директора театров И. А. Всеволожского ежедневно записывал подробности о всех оперных спектаклях, репетициях, артистах, сборах и т. д., писал о постановке в Мариинском театре оперы «Евгений Онегин»:
«…Сегодня тринадцатый спектакль в этом месяце, «Онегин» —тринадцатая опера в этом сезоне, но, несмотря на дурную примету, опера состоялась, прошла блистательно и имела большой успех».
Певица Павловская, певшая Татьяну, вспоминала: «„Евгений Онегин" прошел с громадным успехом. Весь музыкальный артистический Петербург взволновался».
Жена Антона Григорьевича Рубинштейна рассказывала, что когда она в театре попробовала при муже покритиковать оперу, он резко крикнул: «Что ты понимаешь! Кто вырос на цыганских романсах и итальянской опере, тот не смеет говорить о таких вещах».
Чайковский мог быть доволен — все больше и больше людей покоряла его музыка, все больше распространялась она, принося людям радость и утешение.
Он всегда считал оперу наиболее демократичным видом музыкального творчества.
П. И. Чайковский. 80–е годы.
Он писал, что опера «имеет то преимущество, что дает возможность говорить музыкальным языком массам. Уже одно то, что опера может играться хоть сорок раз в течение сезона, дает ей преимущество над симфонией, которая будет исполнена раз в десять лет!!!»
Желание общаться посредством музыки с возможно большим количеством людей всегда владело композитором. Он объяснял его так: «Мне, как и всякому говорящему и имеющему… что сказать, нужно, чтобы меня слушали». И еще: «…чем больше, чем сочувственнее круг моих слушателей — тем лучше».
А у «Евгения Онегина» этот круг был чрезвычайно широк.
Стоит только привести один эпизод, рассказать только об одной постановке этой оперы в дни, памятные очень многим ленинградцам.
…1941 год. Блокадный Ленинград. Оставшиеся в городе артисты Театра оперы и балета имени С. М. Кирова в бывшем Народном доме на Петроградской стороне 21 ноября открывают «блокадный сезон» оперой «Евгений Онегин»! Какое глубокое содержание в этих словах: темный, застывший город, огромный заледеневший зал, голодные люди, закутанные во все свои самые теплые вещи, воины — защитники Ленинграда. В антракте своеобразный гул — это, согреваясь, топают ногами, обутыми в валенки. А во время действия — тишина. От дыхания подымаются легкие облачки пара. Люди, замерев, слушают всей душой такую родную, близкую им всем музыку, дающую силы жить и бороться с врагом, с голодом, с невозвратимыми потерями, со смертью…
Но вернемся в Петербург.
Здесь в конце 1884 года Чайковский познакомился с молодыми композиторами, составлявшими ядро беляевского кружка, во многом продолжавшего традиции кружка балакиревского.
Вот как рассказывал об этом А. К, Глазунов:
«Я познакомился с П. И. Чайковским на вечере у Балакирева осенью 1884 года (Балакирев жил тогда на Коломенской улице, д. 7. — Л. К.).
Николай Ильич Чайковский. (Публикуется впервые.)
…У нас, в особенности у молодых членов балакиревского кружка, ожидаемая встреча с «не своим» Чайковским вызывала какой‑то загадочный интерес. Мы собрались к Балакиреву к назначенному часу, с волнением стали ждать прихода Чайковского и, ввиду того, что последний был не нашего лагеря, обсуждали вопрос о том, какой позиции нам держаться, — вероятно, быть очень сдержанными. Появление Чайковского тотчас же положило конец несколько натянутому настроению присутствовавших, в особенности молодежи. Чайковский соединением простоты с достоинством и утонченной, чисто европейской выдержкой в обращении произвел на большинство присутствующих, в особенности молодежи, самое благоприятное впечатление. Мы как‑то свободно вздохнули… Вечер прошел очень оживленно. Говорили о музыке… Кажется, были сыграны произведения Ляпунова и мои. Чайковский ушел ранее других, и с его уходом мы почувствовали себя опять в прежней, несколько будничной обстановке. Многие из молодых музыкантов, в том числе А. К. Лядов и я, вышли от Балакирева очарованными личностью Чайковского…»
Впоследствии Глазунов ближе познакомился с Петром Ильичом, и между ними завязалась дружба, продолжавшаяся до самой кончины Петра Ильича.
Чайковский не раз посещал семью Глазунова не только в петербургской квартире на Казанской (ныне улица Плеханова, д. 8), но и на даче в Царском Селе и в Петергофе.
А через двадцать лет после смерти Чайковского Глазунов писал: «Мелодия, вечна, а поэтому вечно будет жить и Чайковский. Трудно найти не только в русской, но и в иностранной музыке подобного композитора, который был бы так силен, ярок и самобытен во всех родах музыкального творчества.
…На его музыке воспитывается вся наша консерваторская молодежь. Скажу более, дух Чайковского до сих пор еще витает в стенах Консерватории — и каждый день мы его вспоминаем.
Что еще прибавить к этому? Одно только: почаще слушайте его музыку, и вы несомненно полюбите этого гения».
А. К. Глазунов говорил о Петербургской консерватории, директором которой он был тогда.
В эти годы Петр Ильич в Петербурге чаще всего останавливался у Модеста Ильича, который жил со своим воспитанником Колей Конради на Фонтанке, в доме № 15.
Ему было там, наверное, хорошо и уютно. Как‑то он писал брату: «Я немножко сегодня взгрустнул о тебе, милый мой Модя, и так мне захотелось очутиться у вас на Фонтанке с тобой и с Колей, в тишине и мире послеобеденного часа».
Новый, 1885 год дарит композитору новый триумф.
Этот триумф был вызван первым исполнением Третьей сюиты, которое состоялось в пятом симфоническом собрании Русского музыкального общества 12 января.