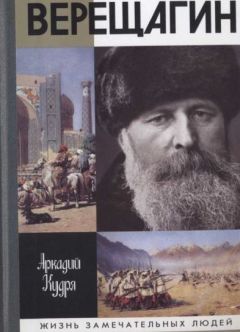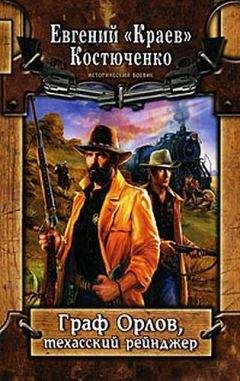Идея нового взаимодействия совсем свеженькая. Агонов кричит, еще не беспокоясь о возможном плагиате.
«Зачем нам дети, вы думали об этом? – кричит он. – Затем, чтоб они были лучше нас. Иначе – стоп! Зачем! К чертовой матери! Обязательно чтоб лучше, иначе никакого прогресса, все, что совершенствуется, – умирает, человечество не хочет совершенствоваться, оно но выстругать себе гроб…»
Не сколотить, а выстругать, – говорит Агонов, потому что сидящий перед ним Верещагин выстругивает мундштук, это Агонов видит своими выпученными на собеседника желтыми склеротическими белками, но что выстругивает Верещагин и зачем – об этом Агонов никогда не спросит, его интересуют только собственные идеи, – начни Верещагин сейчас откусывать от мундштука большие куски и жевать, Агонов не удивится, не остановит ход своих мыслей, он хоть и выпучил глаза, но, практически, Верещагина не видит, только сам процесс строгания как-то случайно проскользнул в его мозг, поэтому он и требует от человечества, чтоб оно выстругало себе гроб, если не намерено совершенствоваться, а не сколотило.
Он кричит, что по его в тиши ночей выношенной, точно рассчитанной, продуманной, не говоря уже о том, что явившейся в результате гениального озарения теории, любовь юных девушек к столь же юным юношам противоестественна, природа требует совсем другого, а именно: чтоб юные девушки влюблялись в пожилых мужчин. Выразив эту мысль, Агонов приосанивается, так как именно он и есть пожилой мужчина, и смотрит на Верещагина выжидательно, но Верещагин молчит, он строгает, работа продвигается медленно. «Мало того, что природа требует, они и сами этого хотят!» – убежденно кричит Агонов, – можно подумать, что у него отбою нет от юных прелестниц, что именно на основе личного опыта он и создал свою теорию. Правда, дальше он идет немного на попятный, говоря, что хотя да, они, эти юные девушки, испытывают инстинктивное влечение к людям пожилого возраста, но сами же, однако, и подавляют этот природный зов, ибо традиция – противоестественная, разумеется – считает подобную любовь постыдной, в результат чего лишенные возможности свободно любить пожилых мужчин, юные девушки любят их подсознательно, в сознательной своей практике заставляют себя влюбляться в постылых ровесников.
А Верещагин орудует ножом. Он решил вырезать змею, которая кольцами обовьет весь мундштук, а голову положит на тот конец, где вставляется сигарета. Только вот какая беда: в области изобразительных искусств Верещагин ничего не умеет, змея наверняка получится – он знает это – неуклюжей и непохожей; кроме того, время идет, пора бы бросить все к черту и засесть за повторные расчеты, любовь к которым на Верещагина уже накатывает волнами.
А Агонов все кричит. Он кричит, что когда юная девушка рожает ребенка от ровесника, то никакого усовершенствования не происходит (у него удивительная способность: взяв вначале определенный тон крика, держать его до конца без малейших изменений; постепенно привыкающему уху кажется, что речь звучит все тише и тише, в конце концов приходится даже напрягать слух, чтоб различать слова, хотя Агонов по-прежнему орет), по тому что в генах у юного самца, – орет он, – хранится лишь то богатство, которое получено от родителей, он передает это наследство дальше, своему сыну, ничего не имея прибавить, в результате: что взял, то и дал, никакого обогащения, топтание на месте, за которое природа по головке не погладит, она сурово наказывает тех, кто не хочет или не может бежать вперед – «Беги, беги! – кричит она. – Вперед, вперед! Не твоего ума дело – куда, прибежишь – сам увидишь, а пока беги, не задумывайся!», а кто не бежит, того она вычеркивает из списка, – тогда как пожилой мужчина к хранящемуся в генах опыту предков прибавляет опыт собственных страданий и мытарств. «А радостей?» – спрашивает Верещагин, кромсая мундштук. «И радостей», – соглашается Агонов неохотно, потому что опыта радостей в свои гены он не очень много добавил, в основном страданий и мытарств, так уж был устроен, что имел в жизни одни страдания и мытарства. И ребенок, – говорит он, – родившийся от пожилого мужчины, гораздо богаче, а следовательно, не только лучше приспособлен к современной ему жизни, но – и это главное – делает шаг вперед, так как начинает с того места, где отец заканчивает. «Ребенок всегда начинает с того места, где отец заканчивает, – кричит Агонов. – Но, спрашивается, где заканчивает отец-молокосос, если он еще и не начинал?»
Прокричав это, он вдруг умолкает и смотрит на Верещагина просительно. «Вам что-нибудь нужно?» – осведомляется Верещагин. «Вы мне совсем не возражаете, – жалобно говорит Агонов. – Я дальше так не могу». Его энергия иссякла, возражения нужны ему как бензин двигателю внутреннего сгорания. Он не станет вдумываться в контрдоводы собеседника, не станет их последовательно опровергать, но темперамент его воскреснет, он снова сможет кричать.
Верещагин творит ножом тело змеи. У него нет никакого желания возражать. Но делать нечего: раз пустил человека в дом, приходится с ним спорить – по отношению к Агонову долг гостеприимства выглядит именно так.
«Нынешнюю форму брака человечество совершенствовало веками, – говорит Верещагин унылым голосом. – Думаете, оно так охотно откажется?»
Агонов воскресает. На устах – улыбка, в глазах – огонь. «Совершенствовало? – кричит он. – Ха-ха! Оно стоймя стояло, ваше человечество! В области техники – да! В области науки – тоже да! Да! Да! Да! Где движение поощряется, там оно совершается! Изобрел человек машину – честь ему, хвала, ура, медали, премии! Машины ездят по нашим дорогам, воняют своим газом. Но – человек изобрел новый механизм общества? Затолкают, засмеют, заколотят! В струганный гроб! Никому, оказывается, не нужно. То есть как это не нужно? Сколько лет семье? В том виде, в каком она сейчас существует? Пять тысяч! Может, шесть! Это же чудовищно! Что еще продержалось шесть тысяч лет? Вы поедете по улице на слоне или в колеснице? Ага, нет! Но вы пойдете в загс…»- «Это еще неизвестно, – сказал Верещагин. – Может, пойду, может, и нет». – «Пойдете, пойдете, конечно, пойдете, – завопил Агонов очень уверенно, – как ходили в него древние аккадцы, и произнесете там слова, которые Библии древнее, и никто вас не остановит, не засмеет, а если вы разобьете посреди улицы шатер или взберетесь на слона, вас схватит за руку милиционер и скажет: «Не хулиганьте»; в загсе же вас никто не остановит, хотя, если быть последовательным, в загс надо ехать на слоне и из шатра. Да! На слоне и из шатра!»
«На слоне и из шатра!» – кричит Агонов, но уже не Верещагину, а в телефонную трубку, так как зазвонил телефон. Агонов к нему ближе, он ведет себя по-хамски – срывает с чужого аппарата трубку, кричит: «На слоне и из шатра! Але, кто звонит?» – будто это его телефон, его квартира, в его кресле сидит его Верещагин с его мундштуком – он везде у себя дома: у Верещагина, на улице, на планете, во вселенной, это ему звонят все телефоны и галактики для него закручивают свои спирали.