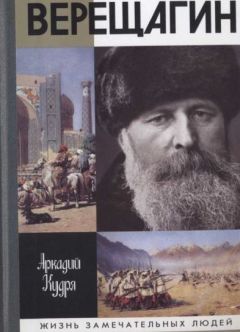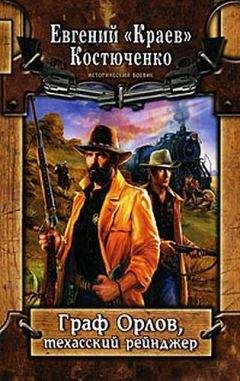Спрут взволнован. Багровым пламенем пылает автомобильная покрышка посреди его лба. «Коллеги, – говорит он, – я пришел сообщить вам пренеприятнейшее известие: единственная цивилизация, еще играющая в шахматы, исчезла».
«Это Верещагин доигрался? – спрашивает мокрица весом пуда в два. – Мне с самого начала что-то не нравилось в его расчетах».
Краснеющий оператор Юрасик красен от макушки до пят. Красный ветер шевелит волосы на лежащем рядом голубом парике Альбины.
Пепел Геннадия изящен, как тополиный пух.
Душа инопланетянки Ии на полпути к родному краю.
«Не надо было торопиться с переводом в класс «эпсилон», – ворчит существо, похожее на коленчатый вал. Теперь попробуйте вычеркнуть. Из класса «эпсилон» не так просто вычеркнуть. Нужен акт списания».
166
Он не помнит, сколько прошло дней: три? четыре? Наверное, пять. А может, и шесть.
Четверть века он пребывал в уверенности, что на его листках вычислен путь к вершине, которая только и делает, что сверкает в солнечных лучах. Он думал, что эта вершина самая высокая, выше ее ничего уже – так ни думал – не возвышается, а значит, и тень ничья на нее пасть не может, потому что тень всегда от того, что сверху. Нет ничего выше вершины, путь к которой он вычислил, поэтому сверкает она в солнечных лучах беспрерывно. Так он все время думал.
А когда в счастливую минуту прозрения, поднапрягши божественную мышцу, он мысленно взобрался на эту свою вершину, то был поражен прохладным сумраком, царившим на ней. Он глянул окрест и увидел, откуда тень. Над его вершиной вздымалась ВЕЛИКАЯ СКАЛА. Та, которую необходимо писать большими буквами, иначе она не вместится в слово.
Верещагин не огорчился, не зарыдал от разочаровании. Восторг овладел им. Потому что видеть ВЕЛИКУЮ СКАЛУ – само по себе огромное счастье и не каждому дано. Из равнины ее не заметишь. Нужно совершить УЖАСНУЮ ОШИБКУ, лишь с ее высоты открывается вид на ВЕЛИКУЮ СКАЛУ.
Не огорчился Верещагин нисколько. Запрокинул голову и потер от возбуждения руки. Лицезреть тайну еще радостней, чем владеть ею.
Однако недолго пребывал он в бездеятельном созерцании. Бормоча: «Ты – СКАЛА, а я – гений», он подошел к ней и попытался ступить ногой на ее крутое подножье.
Но путь вверх был отвесен, а камень гладок. СКАЛА вздымалась в небо, как гигантский Феллос на вакхических праздниках в Афинах.
Она не показывала Верещагину своих выступов, трещин, зазубрин, за которые можно было бы ухватиться, уцепиться, чтоб лезть вверх. Она не играла с Верещагиным в поддавки.
Он перестал спать. Совсем. Выходил из дому, только чтоб сбегать в цех, вынуть из печи очередные драгоценности и торопливо расписаться в протоколе. Он приобрел странную мимику и необыкновенное выражение глаз. Заботливый оператор Геннадий сказал о своем начальнике заботливые слова: «Боюсь, что наш товарищ Верещагин скоро ляжет в психиатрическую лечебницу». Альвина возразила ему: «По-моему, у товарища Верещагина что-то с сердцем. Он так часто дышит».
Часто дышал Верещагин потому, что на работу бегал бегом. Экономил время.
На какой-то там день у него закружилась голова, судорогой свело плечо. Он вынужден был прилечь.
Задремав не более чем на полчаса, он успел увидеть сон, будто у него разболелся зуб, и проснулся, мыча от боли. Но когда пришел в себя, то оказалось, что все это сонный бред и фантазия. Зуб нисколько не болел.
Впрочем, если хорошо прислушаться, можно было уловить, что какая-то боль все-таки наличествует.
Верещагин залез в рот пальцем и нащупал в зубе дупло. Он знал об этом дупле и раньше, но не обращал внимания, а теперь в нем свила гнездо маленькая-премаленькая птичка-боль. Боль-колибри.
Верещагин палец изо рта вынул, лег на пол и почувствовал, что его восприятие стало острее и цепче.
Раньше подножие неприступной СКАЛЫ казалось совсем гладким, теперь же верещагинская душа стала различать на нем едва заметные трещинки, шероховатости, а самые маленькие верещагинские мысли стали даже цепляться за них своими крохотными ручонками и ножками, но, взобравшись на метр-другой, все же срывались.
Благодаря ничтожности своих размеров и легковесности, падая, они ушибались не сильно, не в кровь и, потерев ушибленное место, повторяли свои попытки – однако с тем же результатом. Впрочем, одной, наиболее ловкой и энергичной, удалось взобраться довольно высоко и поэтому, сорвавшись в конце концов, она разбилась насмерть.
После такого трагического исхода маленькие мысли уже не отваживались рисковать. Они теперь только ходили вокруг подножья, шлепали по нему ручонками, говоря: «Да, конечно, выступ – вот он, но дальше-то – гладкость». И не лезли.
В это же время Верещагин обнаружил, что зуб у него больше не болит.
Тогда, уловив связь явлений, он взял из своей коллекции длинный тонкий гвоздь, принадлежавший когда-то ветеринару македонского царя Александра, вставил его на ощупь в дупло и стукнул по шляпке молоточком, на деревянной рукоятке которого он в свое время тоже вырезал змею. Вообще что бы ни вырезал Верещагин, у него всегда получалась в конце концов змея. Откололась половина зуба, но в первое мгновенье Верещагину показалось, что откололось полголовы. Боль от этого пустячного разрушения была такой сильной, такой мутной и гадкой, что Верещагин подумал: «Если она продлится больше минуты, не стерплю, зарежусь», – и уже стал смотреть слезящимися глазами на здоровенный нож, лежащий в невымытой тарелке – на кухне он вбивал в себя гвоздь ветеринара великого царя Александра.
Но истечении минуты боль ослабела втрое или вчетверо, грязным кухонным полотенцем Верещагин стер со щек слезы и вернулся в комнату. Он снова лег на пол, нарисовал на чистом листке человека, у которого вместо лба был рот, а вместо подбородка переносица, и вдруг почувствовал, что начинается самое главное.
Он стал работать с безумием, азартом и хитрым расчетом.
Маленькие мысли уже не помнили о погибшем товарище. «Ай-яй-яй!» – истерично закричали они тоненькими голосами и бросились на штурм неприступной скалы. Крохотными ручонками вцепились они в трещинки, мелкими зубками впились в шероховатости камня – не оторвешь. «Ого-го!» – могучими басами загорланили тяжелые крупные мысли, – и ринулись вверх, хватаясь ручищами за тщедушные тельца мелких мыслишек, однако срывались, падали обратно, к подножью, потому что слабая плоть младших собратьев не выдержала их тяжести, рвалась, все начиналось сначала: кровь, брань, крик, стон, вопль – все слилось в единый шум битвы, которой руководила Зубная Верещагинская Боль.
Спокойствия в пылу сражения Верещагин не терял и сумел заметить, что когда наклоняет голову к листкам пониже, то зубная боль усиливается, он стал пользоваться этим в тех случаях, когда штурм неприступной СКАЛЫ ослабевал, для чего, в конце концов, взобрался на диван и продолжал писать, свесившись оттуда головой вниз, – ломая перо, рвя бумагу и мыча от зубной боли.