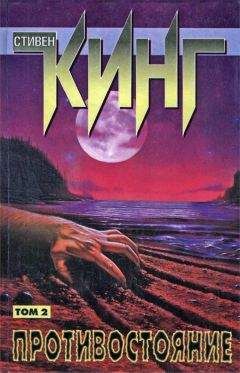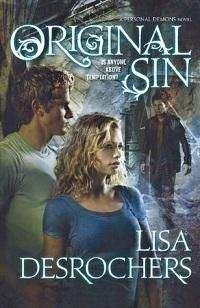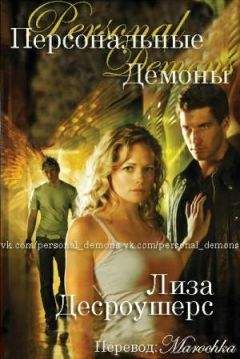За годы тренировок он достиг умения писать, которое Фрэнни видела в его гроссбухе: ни абзацев, ни отступов, ни единой передышки для глаза. Это была работа — жуткая, изнуряющая руку работа, — но это был труд любви. Он охотно и с благодарностью пользовался машинкой, но полагал, что самое лучшее в себе оставлял для письма от руки.
И теперь он выпишет остатки самого себя именно таким способом.
Он посмотрел вверх и увидел, как в небе медленно кружатся канюки, как в каком-нибудь субботнем дневном фильме с Рандольфом Скоттом или в романе Макса Брэнда. Он представил, как это было бы написано в романе: «Гарольд увидел канюков, кружащих в небе в ожидании. Он секунду спокойно смотрел на них, а потом снова склонился к своему дневнику».
Он снова склонился к своему дневнику.
В конце он был вынужден возвратиться опять к корявым буквам — лучшему, что могло создать его трясущееся рулевое колесо в самом начале. Он с болью вспомнил залитую солнцем кухню, стакан холодной кока-колы, старые растрепанные книжки Тома Свифта. Наконец-то теперь, подумал он (и записал), он сумел бы доставить радость своим родителям. Его детская полнота прошла. И хотя фактически он еще оставался девственником, в душе он не сомневался, что не был гомосексуалистом.
Он раскрыл рот и прохрипел:
— Добрался до вершины мира, ма.
Он исписал полстраницы. Посмотрел на то, что написал, а потом на свою ногу, вывернутую и сломанную. Сломанную? Это было очень мягко сказано. Нога была раздробленной. Он сидел в тени этого камня уже пять дней. Кончились последние остатки еды. Он умер бы от жажды вчера или позавчера, если бы дважды не прошел сильный дождь. Его нога разлагалась. Она отвратительно воняла, и плоть здорово распухла в штанине, натянув ткань так, что та стала напоминать сосисочную обертку.
Надин давно исчезла.
Гарольд взял револьвер, лежавший у него под боком, и проверил заряды. Он уже проверял их раз сто, если не больше, за сегодняшний день. Во время дождей он тщательно следил за тем, чтобы револьвер оставался сухим. В нем осталось три патрона. Первые два он разрядил в Надин, когда она взглянула на него сверху вниз и сказала, что едет дальше без него.
Они проходили крутой поворот — Надин по внутренней стороне шоссе, а Гарольд по внешней на своем мотоцикле «триумф». Они были на западном склоне Колорадо, милях в семидесяти от границы с Ютой. На внешней части шоссе оказалась лужа разлитого масла, и все дни с той поры Гарольд много размышлял об этой масляной луже. Это казалось уж слишком тщательно подготовленным. Лужа масла, откуда? Наверняка здесь никто не проезжал за последние два месяца. Полно времени для того, чтобы лужа высохла. Это словно его красный глаз наблюдал за ними, поджидая удобного момента, чтобы разлить лужу масла и убрать Гарольда со сцены. Отправить его с ней в горы в опасный путь, а потом похоронить его. Он, как говорится, отслужил свое.
«Триумф» влетел в бордюр, и Гарольда перебросило через него, как жучка. Дикая боль пронзила правую ногу. Он слышал треск сломанной кости. Он заорал. Склон вздыбился ему навстречу — склон, несущийся вниз под крутым, вызывающим тошноту углом прямо к ущелью внизу. Он слышал журчание быстрого потока воды где-то там, ниже.
Он ударился о землю, взлетел высоко в воздух, снова заорал, опять приземлился на правую ногу, услышал, как она сломалась еще в одном месте, снова взлетел в воздух. Приземлился, покатился и неожиданно врезался в мертвое дерево, обгоревшее сколько-то лет назад во время грозы. Если бы его там не было, он свалился бы в ущелье и достался бы не канюкам, а форели в горной реке.
Он записал в своем блокноте, все еще любуясь корявыми, по-детски большими буквами: Я не виню Надин. Это была правда. Но тогда он винил ее.
Потрясенный, весь дрожащий и исцарапанный, с правой ногой, превратившейся в один сплошной сгусток жуткой мучительной боли, он приподнялся и немного прополз вверх по склону. Высоко над собой он увидел Надин, перегнувшуюся через бордюр и смотревшую вниз. Ее лицо было белым и крошечным — лицо куколки.
— Надин! — крикнул он. Его голос напоминал хриплое карканье. — Веревку! Она в левой седельной сумке.
Она продолжала смотреть вниз, на него. Он подумал, что она не слышит его, и приготовился повторить, когда увидел, как ее голова двигается влево, вправо и опять влево. Очень медленно. Она отрицательно качала головой.
— Надин! Я не выберусь без веревки! У меня сломана нога!
Она не ответила. Она лишь смотрела на него сверху вниз и даже не качала больше головой. У него возникло такое ощущение, будто он провалился в глубокую яму, а она смотрит на него сверху, склонившись над краем.
— Надин, кинь мне веревку!
Снова это медленное качание головой, столь же жуткое, как дверца склепа, медленно закрывающаяся за человеком, еще не умершим, но попавшим в тиски какого-то ужасного оцепенения.
— НАДИН! РАДИ ВСЕГО СВЯТОГО!
Наконец ее голос долетел до него, слабый, но хорошо слышный в тиши застывших горных громад:
— Все это было подстроено, Гарольд. Я должна ехать дальше. Мне очень жаль.
Но она не двигалась с места, она осталась у бордюра, продолжая наблюдать, как он лежит футов на двести ниже ее. Уже появились мухи, деловито пробующие его кровь на нескольких камнях, о которые он ударился и поранился.
Гарольд стал ползти вверх, волоча раздробленную ногу за собой. Поначалу у него не было ненависти, не было потребности всадить в нее пулю. Казалось очень важным лишь подобраться к ней ближе, чтобы прочесть выражение ее лица.
Было начало первого. Стояла жара. Пот скатывался с его лица и стекал на острые камни и уступы, по которым он полз. Он двигался, подтягиваясь на локтях и отталкиваясь левой ногой, как изувеченное насекомое. Дыхание с шумом проходило через его глотку туда и обратно, как горячий напильник. Он понятия не имел, как долго это продолжалось, но один или два раза он ударялся больной ногой о торчащие камни и от жутких всплесков боли терял сознание. Несколько раз он с беспомощными стонами соскальзывал назад.
Наконец он тупо осознал, что дальше ему не двинуться. Тени изменились. Прошло три часа. Он не помнил, когда в последний раз смотрел вверх, на бордюр и шоссе; наверняка больше часа назад. При такой боли он никак не мог сообразить, какое расстояние проползал в минуту. Надин скорее всего давным-давно уехала.
Но она все еще оставалась там, и хотя ему удалось одолеть всего около двадцати пяти футов, выражение ее лица было для него ясным до предела. На нем читалось печальное сочувствие, но взгляд был пустым и каким-то отсутствующим.