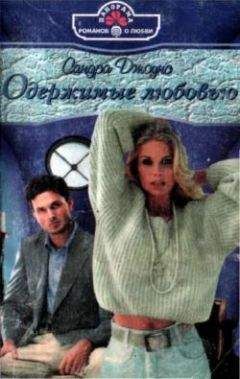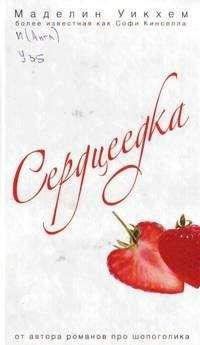— Я?!
— А кто? Конь в пальто? Ты что, венценосец, сбрендил?! По сравнению с вами, дикарями, извини правда, мы сидим ниже травы тише воды, развитая этика не позволяет устраивать такие прикобыльства.
У них только внушением. Они достигли высшего состояния, когда общество не может нарушить интересы единственного индивидуума. Развитый мозг не может быть преступным. Каждый — «государство в государстве». Позволили себе такой эгоизм. Степан Андреевич дикорастущий, президенту ногу за голову, а они имеют право только убеждением, потому что та же сеть из-за отталкивающей лямбда-силы для них почти не работает. Вообще цивилизация Головатого древнее земной раз в двадцать. Никакого насилия, никакое принуждение невозможно даже для извращенцев. Если переводить старушку через улицу, то только на зелёный свет. Самое большее — подтолкнуть обьект опёки к определенному решению иллюзорными мероприятиями. И то не дыша, как у глазных хирургов. А если художник по поводу президента подрасстроился, так не так было, как ему представилось. Вложи в тесное гнездо запал здоровой честной идеи — гадкое сердце не выдержит, рванёт. Банальный инфаркт. Причём общались они напрямую, по семейному, без «зелёноголовых», Ивана и пр… Паня Кочкин только за три квартала маялся в нумерах.
Тогда Степану не ясно — почему нельзя было просто открыться и сказать: отдай, ласточка, пожалуйста, нам наши пассатижи, а мы тебе за это оставшуюся жизнь носки стирать будем.
— К этому шло, если б не портрет.
— Но мне Лузин говорил, что мы только начали цикл и до середины — прорва времени. Зачем заранее подыскивать образец?
А вот это и есть самое главное. Подняли бокалы, достойные.
Выпили, и Головатый рассказал в том же роде удивительное.
Случилось так, что мировые константы, законы природы, считываемые с матричного произведения, принятого для воплощения в прошлом цикле, отчасти получились искаженными. Степан сам художник, должен понимать, какое оно, искусство, квитанций не выписывает и точный прогноз моды на погоду на завтра, соответственно, покажет послезавтра. Поэтому сложилась критическая ситуация, когда относительно возможно, пятьдесят на пятьдесят, при смене цикла замораживание контура. Чисто физический процесс, если не считать, что — шабаш! Целую вечность будет властвовать один только сквалыжный нуль. Никаких тебе бравурных выходов с темповой кодой.
— Представляешь, до чего тоскливо? Только разум сущего, облизывающий себе затылок, и никакой художественной игры материи. Ни звезд, ни планет, ни преджизни, ни революций с мордалупом, ни синь пороха, ни отставной козы барабанщика, ни безделки — шаром покати. Пусто до блевоты! Уж лучше нелёгкое сосуществование, чем лёгкое несуществование. Поэтому заранее, задолго до срединного Ритуала установления облика будущей вселенной потребовалось найти основу, качеством своим способную превзойти константы предыдущей основы. Никто из нас, смертных не обнаглел бы предложить частный вариант на такое грандиозное дело, но Гжимултовский у нас — ба-альшой начальник. Я только намекнул — он тут же организовал расследование, проверили портрет на дюжесть, а когда увидели, что зашкаливает, продвинули по инстанции. Там еще раз за разом проверяли да перепроверяли. И утвердили. Так что, препочтеннейший, с нас бутылка еще за возможное спасение будущего от прозябания. Представляешь, сколько миров бы не родилось, сколько картин бы не написали и водки не выпили?! Понятно, лучше чуть недоперепить, чем перенедопить. Выпьем же за знаменитого художника! напомни свою фамилию, дорогой?
— Хых! То есть ты хочешь сказать, что если бы произошло закукливание материи, с тех пор, кроме какого-то там пустующего разума ничего бы уже не было на веки вечные?
Не было бы только до конца следующего цикла. Но после спячки всё равно развернулось бы, хоть и безобразно, а ля гражданская война. Но кому нужно такое безвременье? А верблюдов всех перестрелять, раз по стольку не пьют.
Всё равно не ясно, что к чему, пожаловался Степан. Лузин другого разума давал, представляя вселенную гирляндой сосисок. Головатый, не впадая в подробности, объяснил на примере иголки. Кончик иголки останавливается в ушке следующей иголки. Так вот, иголке настоящей вселенной самый мизер не хватает дотянуться до пустоты другого ушка, чтобы сбросить туда, посеять зерно с кодом будущей жизни. Абигелев портрет своей, мягко говоря, анормальностью, полу-задним числом как раз и исправит эту, грубо говоря, патологически-космологическую задницу.
Нет, если всё поместить в бутылку, на этикетке напечатать 40®, тогда эта научная проблематика русскому человеку станет удобоваримой.
У Степана взгляд веером в никуда, челюсть маятником ходиков. Очнулся наконец.
— Ощущение, что я сплю. Или меня надувают самым бессовестным образом. До того нереально, что вы говорите.
Ясно, как апельсин. Оперируется чересчур масштабными категориями. Вселенная, бесконечность… Надо привыкнуть. Время нужно. И водки ещё, ясное дело. Предложение Бадьяна Христофоровича своевременно и целесообразно. Пусть тогда предлагающий императив сам и принесет спиритозы обыкновенной. Бадьян выскользнул из мастерской, хотя наверняка мог бы никуда не выскальзывать.
— Терентий, мы, верно сблизились, я тебя последнее время фамильярно на «ты» называю. Но ты старше меня или младше, на самом деле?
— Биологически младше. Но мы одногодки, можно сказать, потому что живем меньше вас.
— Бе-едные.
Отнюдь. Потому, что живут быстрее. Землянин для Головатого, что черепаха для гепарда. Бумажный вопрос задал, Терентий ответ сконструировал, да за время до ответа успевает вздремнуть, перекусить и по девочкам прошвырнуться.
В таком случае пусть-ка покажется в натуральном виде, потребовал Степан. Изволь. И Головатый стал самим собой.
«Да это же кентавр!»
Но это был не кентавр. Эластичное тело змеи, покрытое короткой пантерной шерстью, длинные лапы, из холки тянулось маленькое тело с беспокойными руками, при беге охватывающими корпус крестом, тут же раскрывались, готовые к любой работе, как только существо останавливалось. Но мало покоя было в неуёмном создании. Он явно сдерживался, чтобы показать себя, но только начинал двигаться — невоспринимаемый глазом ураган поднимался в мастерской. Только что стоял — и нет его! Тело заканчивалось благородной формы мордой, что неверно по отношению к мыслящему существу. Но назвать морду борзой лицом борзой тоже язык не поворачивается, хоть она заканчивается не плотоядной пастью, а небольшим ртом, показывающим, что существо говорящее. Что сказать — другие миры!