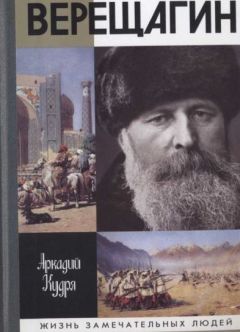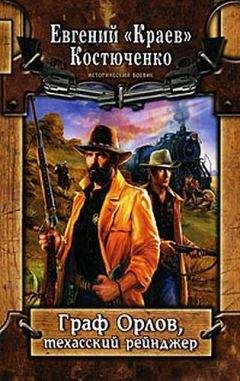Ибо мать – это начало. А какое же это начало, если него – прошлое?
Ну, а та, которая прячет воспоминания: «Еще рассердится и станет хуже относиться», письма: «Уж больно волнительно написаны, от него не убудет, если я сохраню их», та, которая рассказывает о прошлом из одного лишь долга порядочности, без боли и восторга очищения… Та и не любящая вовсе.
Инстинкт ее не требует: «Освободи душу от всех, ибо пришел единственный!»
Двадцать пятый он для нее.
84
Теперь понял, читатель, что произошло с Верещагиным? Влип он, в двадцать пятые попал. Думал, о ш и б о ч к и у девушки Бэллы в прошлом были, вот и добивался исповедального тона. Силой, дурак. А то не ошибочки вовсе. А естественная линия поведения.
Не на ту напал.
Насильственная исповедь хуже вранья.
85
Я еще вот о чем думаю. Если любое окрашенное чувством восприятие есть прием наследственной информации, то не посмотреть ли подозрительным взглядом на искусство? Может, эти художники, писатели, музыканты тайком нам свои гены подбрасывают? Мы читаем, слушаем, говорим: «Ах, как здорово!», а потом наши дети чуть смахивают на Баха или Федора Михайловича Достоевского, как сынок нашей Шарлотты на хитреца Генриха? Я его хитрецом называю, потому что он ухитрился без постели наследника заиметь. Если так, – то есть если творцы произведений искусства в наши хромосомы свои гены втихаря подкладывают, то мне лично этот «эффект кукушки» – не по душе.
Может, моя гипотеза и не верна, но все ж на месте уважаемого читателя я впредь пореже посещал бы библиотеки и концертные залы. Поостерегся б на всякий случай.
Ты, значит, сидишь, слушаешь Героическую симфонию, а на поверку выходит, что это твоя жена немножко изменяет тебе с Людвигом ван Бетховеном. Еще, глядишь, родится глуховатый сын.
Мою книгу, конечно, можно дочитывать смело – потому что она не художественное произведение. Художественное произведение – это в котором вымысел и домысел. А у меня реальные факты, документально подтвержденное жизнеописание Верещагина – великого человека, не нам чета.
86
Директор встает из-за стола. Он идет навстречу Верещагину и говорит: «Не в том дело, дорогой коллега, что ученый совет вас не переизбрал, а в том, что я – директор, и могу воспользоваться своим правом оставить вас старшим научным сотрудником, несмотря на решение совета. И конечно же я воспользуюсь этим правом, дорогой Верещагин, мы еще поработаем с вами, мы – лучшие ученики профессора Красильникова и в обиду друг друга не дадим, это само собой разумеется, но вы не должны держать зла на членов ученого совета, их можно понять – десять лет, говорят они, десять лет Верещагин не делает науку, ни одного серьезного результата… заметили, дорогой Верещагин, вопиющую ошибку в упреках? Не десять, а пятнадцать! Пятнадцать лет, мой, даже больше, шестнадцать уже, – что я говорю! – семнадцать, – да, да! – за восемнадцать почти вы не провели ни одного серьезного исследования! Но я оставил членов ученого совета в неведении относительно точной цифры: так приятно, когда люди добровольно ошибаются в нужную вам сторону, вся прелесть именно в добровольности! – навязанная ошибка – это хулиганство, даже подлость! – вы согласны со мной?.. Я напоминал им о ваших блестящих успехах в решении частных народнохозяйственных проблем, они остались непреклонными, однако это не имеет ни малейшего значения, дорогой Верещагин, умоляю вас, не расстраивайтесь, гораздо важнее то, что вы великолепно выглядите, отпуск пошел вам на пользу, в ваши годы главное – хранить здоровье, а успехи придут – сами! они, – как вы, конечно, понимаете, простая функция от здоровья…»
Он усаживает Верещагина в кресло, садится напротив, говорит:
«Нет, я просто отказываюсь узнавать вас, настолько вы изменились – и в лучшую, в лучшую сторону! – выглядите молодцом, точь-в-точь как я сам когда-то, лет двадцать пять, тридцать тому назад, четверть, почитай, века обратно, когда со мной случилась огромная творческая и личная неудача… Сами понимаете, есть вещи, о которой не хочется рассказывать подробно, и я не расскажу, – обозначим ситуацию, в которой я оказался, условным термином «зашел в тупик»… Впрочем, «зашел» – не то слово, я вбежал в него со всей доверчивостью и стремительностью еще довольно юного сорокалетнего мужчины, не подозревая, что впереди глухая, подлая стена, можете себе представить, с какой силой я шмякнулся об нее мордой…»
Директор очень хочет быть понятым, и вот – бьет себя ладонью в середину лица, чтоб показать, с какой силой.
«Я не вышел из этого тупика, меня вынесли», – говорит он и рассказывает о том, как сразу же после этого несчастья был отправлен отдыхать на курорт, и дальше – о чудесных изумрудных волнах, бьющихся в изумительно пепельные скалы, о чудесных хризантемах и магнолиях из сказочного приморского парка, о медузах-красавицах, о гортанной песне перламутровых чаек…
«Я вернулся бодрый и обновленный, с румянцем того же оттенка, что и у вас, дорогой Верещагин, – говорит директор. – Узнаю румянец! Узнаю свои сорок! Сейчас я могу просидеть на курорте триста лет, а такой румянец не высижу! У меня есть друг, одинаковых со мной лет, но я тружусь, а он прельстился пенсией, махнул рукой на карьеру, науку, уехал – угадайте куда? – в Гагру! Прошло пять лет, встретились мы в Москве месяц назад, думаете, курортная жизнь пошла ему на пользу? Отнюдь и увы! После шестидесяти уже ничего не идет на пользу. Хоть бы румянцем, говорю, обзавелся, старый конь! Усмехается. Самому, говорит, на себя противно смотреть. В наши годы кому на себя приятно смотреть? Кстати, знаете, зачем он в Москве? Написал на досуге научно-популярную книженцию – большой тираж, маленький успех, – пригласили в столицу выступить по телевидению. Приехал, не поленился, но узнал, что передача будет цветной,- и отказался наотрез. Говорит, после шестидесяти человек хорошо смотрится только в черно-белом изображении… Вы, дорогой мой Верещагин, великолепно смотрелись бы сейчас по цветному телевидению, я искренне скорблю, что вам до сих пор не удалось еще ничего такого, за что привлекают к экрану. Мне даже как-то неловко перед профессором Красильниковым, – наш великий старик может подумать, что я не создаю для вас условий. Но, в конце концов, можно просто пойти в фотоателье и заказать себе на память цветной слайд. Хотя бы! Через четверть века будете смотреть на него влюбленными глазами – о, как я жалею, что у меня нет цветного слайда тех времен, когда я молодой и розовощекий был вынесен из тупика! Одним словом, Верещагин, я искренне рад, что вы так чудесно выглядите, в науке главное не талант, а здоровье, я верю в ваши грядущие успехи, не обращайте внимания на злопыхателей, идите и работайте!»