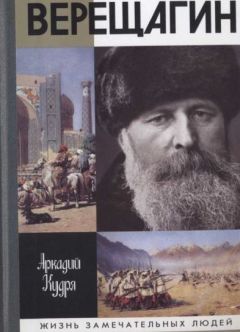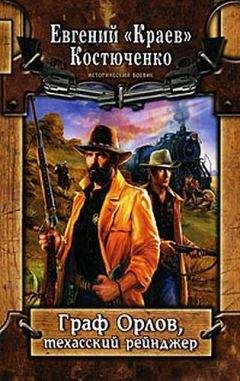Верещагин выходит из кабинета такой тяжелой походкой, что секретарше Верочке смешно смотреть. Будто он в – этих, как их? – кандалах, думает Верочка. Будто он водолаз, идет по дну океана. А бледный! Будто не отдыхал месяц на Балтийском побережье. Говорят, у него любовная неудача… Фи!
Верочке трудно скрывать отвращение к мужчинам, у которых любовные неудачи.
Верещагин вспоминает чайку на столбе и невнятно думает: «Еще тогда я почувствовал, что это не к добру».
Он приходит домой, включает магнитофон, полузабытые за месяц мелодии лишают его последних сил, он сидится на диван и начинает плакать – баба, развалина!
Верещагин теперь развалина. Когда-то он треснул, а теперь развалился. И ничего больше не будет.
Жизнь, как магнитофонная лента, на которую записана песня. Песня кончилась, но лента все тянется. Ленте – длиннее песни. Она еще долго будет тянуться. Шипя при этом.
Верещагин ложится спать. А утром идет в институт. А потом снова спит и снова идет. Он лет шесть так спал, ходил в институт, ел, выполнял задания, улыбался, когда при нем шутили, отвечал, когда его спрашивали, здоровался с девушкой Бэллой, когда встречал на улице, потом она исчезла, видно, куда-то уехала, – может, вышла замуж и уехала, а может, уехала, чтобы выйти замуж, раз в две недели мыл пол в квартире, готовил ужин, завтракал стаканом кефира, но, несмотря на это, стал толстеть, изредка хаживал в кино, иногда включал магнитофон, регулярно смотрел телевизор, а когда ему сказали: «Слышал? Профессор Несгибайло умер», то спросил: «Когда?»
Похороны, оказывается, уже состоялись.
Лента тянется медленно.
88
Он стал толстеть, я уже говорил, а однажды и вовсе беда навалилась. Утром приподнялся и увидел: вся подушка в волосах толстым слоем. Провел рукой по голове – полная горсть, будто ножницами чикнул.
Шевелюра его стала редеть с поразительной быстротой – двух недель не прошло, а волос почти не осталось: сначала плешь на макушке замерцала, потом залысины к ней подползли – все слилось, заблестело, только по бокам еще кое-что росло, и тогда, удивившись этой внезапности, Верещагин пошел в библиотеку и за один день прочитал все, что там было о волосах, – совсем мало литературы нашлось в библиотеке на эту тему, а у Верещагина научный склад ума, к анализу склонный, к постижению причин, – причину хотелось узнать Верещагину и, если возможно, способ борьбы, но книг нашлось мало, почти ничего не смог прочитать Верещагин и тогда стал думать сам, стал покупать всякие вещества и смешивать их между собой, смешанными же между собой веществами стал мазать голову – сначала с обратным результатом: еще быстрее полезли волосы, даже с боков почти исчезли, тогда еще раз подумал Верещагин, представил себе жизнь волосяной луковицы во всей ее полноте, снова смешал друг с другом некоторые вещества и втер новую смесь опять в голову, уверенный, что на этот раз волосяная луковица радостно отзовется на пришедшую извне помощь.
И точно. Не прошло и недели, как волосы снова проросли из верещагинской головы, пробивая плотную поверхность лысой кожи, они не по дням, а по часам прибавляли в росте и толщине, через месяц Верещагин уже обладал новой, довольно сносной шевелюрой, – все так быстро получилось, что он даже не успел всего снадобья истратить: целую бутылку приготовил, полбутылки осталось.
Все-таки, что ни говорите, даже в эти годы гений Верещагина не дремал – надо же: миллионы врачей-специалистов чахнут над этой проблемой, ничего путного придумать не могут, Верещагин же мгновенно постиг секрет, – главное, сумел представить жизнь волосяной луковицы во всей полноте – со всеми ее заботами, волнениями и запросами, – волосы выросли так быстро, что однажды утром, расчесываясь у зеркала, Верещагин подумал: «А был ли я лысый или показалось? Наверное, показалось. Мне сейчас и не такое приходит в голову».
Ему действительно в эти годы такое приходило в голову, что, если описать – читатель обомрет. Но я не имею права – на этот счет у меня есть давняя договоренность с Верещагиным. Точнее, его запрет.
89
Однажды, примерно через год после того, как у него снова отросли волосы, выходит Верещагин из лаборатории в коридор и видит: у окна стоят двое – знакомые, коллеги. Курят и обсуждают заметочку из иллюстрированного журнала.
Верещагин эту заметку читал. В ней рассказывалось об одном юноше выдающихся умственных способностей, двадцатидвухлетнем докторе физико-математических наук. Все четко было в заметочке, а этим двоим что-то неясно, стоят у окна, громко спорят.
Один говорит: эдакая огромнейшая одаренность, бесспорно, со временем станет новым Эйнштейном.
А другой не соглашается знаем, мол, этих вундеркиндов, у них закон: в юности всех поражают, а к зрелым годам становятся заурядными специалистами.
Первый говорит: ну, брось.
А второй: из этих молодых да ранних, как правило, ничего путного не выходит.
Первый опять: ну, брось!
Верещагин тоже закурил и подошел к спорящим, чтобы принять участие в разговоре, поскольку он, как было сказано выше, эту заметочку читал. Второй спорщик увидел его, обрадовался и говорит первому: «Чего далеко ходить за примером, – и пальцем в Верещагина. – В двадцать лет кандидатскую защитил. Ну, а толку? Толку-то, а? Правда, Верещагин?» Верещагин кивнул.
90
Похоже, от этого кивка у него делается легкое сотрясение мозга: к вечеру начинает болеть голова, утром он просыпается совсем без сил. Одеяло, подушка – на полу, простыня скручена в жгут. Будто приходил к Верещагину речью Некто и он боролся в ним, как Иаков.
Три дня он валяется в постели, а утром четвертого мчится в институт, вбегает в кабинет директора и кричит; «Дайте мне печь, я хочу сделать Кристалл!», но это пустой номер: во-первых, у него не готово – в дипломной-диссертации масса ошибок, там еще думать и думать, до практического создания Кристалла еще далеко; во-вторых, кабинет пуст, то есть директора в нем нет, – гласом вопиющего в пустыне орет Верещагин: «Дайте мне печь!», сам себя только и слышит, – вышел куда-то директор, повезло ему, Верещагин мог бы и за грудки взять, в таком он сейчас состоянии.
Допекло все-таки. Сказано: легкое сотрясение мозга. Обидели Верещагина коллеги-сослуживцы, категорически высказавшись в том духе, что ничего путного из него не вышло. Истинного вдохновения в данный момент Верещагин не испытывал, от одного самолюбия кричал: «Дайте мне печь!»
Сказано: не было в кабинете директора. Верещагин выбегает на улицу, мчится на почту и звонит Пеликану, которого когда-то обидел. В семнадцатой главе описан у меня этот эпизод, как обидел Верещагин Пеликана.