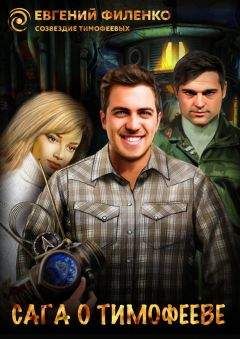Серое, гнусное межвременье.
Тимофеев посадил кошку на приступок и с трудом отвалил примерзшую дверь погреба. Впотьмах, на ощупь, шаря носком валенка перед собой, спустился по скрипучей лесенке. Освещения не было, но где-то на полке припасен был люминесцентный стерженек, подарок младшего сына Виктора. На холоде он светил слабо, неохотно. Тимофеев зажал стерженек в зубах и приналег на пристывшую к полу кадушку. Сдвинуть ее удалось лишь с третьей попытки.
За кадушкой обнаружилась прикрытая фанерным щитом, словно очагом папы Карло, глубокая ниша. Там, укутанные пузырчатой пленкой, переложенные поролоном и упакованные в коробки, хранились последние сокровища Тимофеева.
Он не заглядывал сюда лет пять, не меньше. Поэтому потребовалось изрядное душевное усилие, чтобы одолеть соблазн открыть коробки и хотя бы краем глаза скользнуть по овеществленным воспоминаниям наивной и безмятежной юности. «Не сейчас, – думал Тимофеев. – Может быть, в другой раз… когда-нибудь». В носу нестерпимо щипало: возможно, всему причиной был холодный сырой воздух.
Он сразу нашел что искал. Темпотайп лежал сверху, на скорую руку замотанный в пузырчатку и неряшливо засунутый в простой пластиковый пакет. Помнится, некогда было с ним особо возиться, в горнице ждал темный от переживаний и напряженный, как натянутая тетива, Фомин… Избавив прибор, сходный со старинным билетным компостером, от пленки, Тимофеев бегло изучил его состояние. Холод и влага – не лучшие друзья сложной техники. Сморщенной бумаги в кассете оставалось на пару-тройку коротких сообщений, а краска в пишущем узле наверняка высохла. Шансов на успех практически не существовало.
Зачем он это делает? На что надеется? Слова ослепительной гостьи из умопомрачительного и, как выяснилось, несбыточного далека теперь казались ему не более чем дурно прочитанными вслух страницами из низкопробного фантастического романа. Уж он постарался в свое время выкинуть из головы собственное удивительное прошлое, чтобы не мучиться вопросами о туманном будущем! Снова войти в ту же реку было не просто нелегко, а еще и больно. Словно вдруг заныл-задергал давно удаленный зуб мудрости.
«Мы были молоды и счастливы, – думал Тимофеев, отогревая прибор в ладонях. – В чистом ослеплении юности мы многого не замечали вокруг. Да, мы смотрели в будущее, и оно представлялось нам очень близким, очень светлым! Такими нас вырастили и воспитали родители и учителя. А еще много, слишком много хороших книг. Если бы мы не были так устремлены в завтра, быть может, нам удалось бы лучше обустроить собственное сегодня… Но не удалось. Ничего не удалось. Мы были слишком доверчивы и самонадеянны, и все время позволяли другим принимать за нас самые важные решения. А эти, другие… они-то откуда взялись на наши честные, наивные, пустые головы?! Вот что мы здоровы были, так это думать и говорить. Говорить и думать. И ничего не делать. Тут-то они и вылезли… А те из нас, кто пытался что-то делать, совершал по большей части драматические глупости… Нет, хватит на сегодня тягостных раздумий. Меня ждут друзья. Немногие, но лучшие. И моя Света. И фантазий на сегодня тоже достаточно».
Он опустил темпотайп на прежнее место и аккуратно сложил вчетверо кусок пузырчатки с тем, чтобы прикрыть прибор сверху. «Хватит, – мысленно повторил Тимофеев. – Хватит с меня. Хватит со всех нас. Все закончилось бесповоротно. Сделан неверный выбор, но этот выбор – наш. И мы заплатим за него назначенную цену. Просто дождитесь, пока никого из нас не останется, и творите что пожелаете».
– Мяу, – сказала Клеопатра, глядя на него из темноты циничными желтыми зенками.
– И ты туда же, – обреченно проговорил Тимофеев. – Ну ладно, ладно, вот погляди.
Он ткнул пальцем в клавишу с аккуратно нарисованными много лет назад, а нынче почти стершимися буквами «пусск». Автором надписи был Лелик, обладатель самого красивого почерка и самой ничтожной грамотности.
– Видишь, я сделал что мог, – сказал Тимофеев убедительно. – Меня не в чем упрекнуть. И на этом…
Темпотайп несколько раз пренебрежительно фыркнул, а затем выкатил из щели желтый язычок бумаги с едва различимым текстом.
– Мяу, – повторила Клеопатра презрительно.
Во всей истории она явно держала сторону Вики.
Не веря собственным глазам, Тимофеев оторвал послание из будущего и при мерцающем свете стерженька несколько раз внимательно прочел.
– Ну, допустим, – сказал он, совершенно ничего уже не понимая. – И что из того следует?
Но все же что-то следовало.
Внезапно голова его пошла кругом. Как будто весь мир вдруг прянул кверху этакой кабиной скоростного лифта – с первого этажа к сто двадцатому без остановок.
Тимофеев аккуратно сложил бумажку с посланием, спрятал в карман брюк и только после этого, с чувством исполненного обязательства, лишился чувств.
* * *
Очнулся он почему-то на свежем воздухе. Сидел в сугробе, привалившись к стене дома, и бездумно таращился в предвечерние небеса. Продолжать это бессмысленное занятие было неудобно и холодно. Поэтому Тимофеев выкарабкался из сугроба и, отряхиваясь на ходу, побрел домой.
По пути он на всякий случай выглянул за ворота. Черный автомобиль обретался на прежнем месте, сильно припорошенный снегом. Вокруг него, бодро вскрикивая и отвешивая короткие мощные тычки невидимому противнику, бегал трусцой кожаный детина. Завидя Тимофеева, он весело воскликнул:
– Э! Зачем так холодно, дорогой?
– Почтанник надо было одевать, – иронически заметил зловещий Закария, который стоял здесь же, вольготно привалившись к борту автомобиля, и курил громадную сигару. Черное пальто его было застегнуто на все пуговицы под горло, а кепка глубоко натянута на уши. Как выяснилось, по-русски он все же изъяснялся, хотя и с сильным акцентом.
– Что ты такое говоришь, генацвале?! – шутейно возмутился кожаный. – Грузин в почтаннике – как орел в памперсе!
– Может быть, вам стоит пойти за стол, погреться? – осторожно предложил Тимофеев.
– Не сейчас, дорогой, – строго отвечал Закария. – Уважаемый человек проснется, – он кивнул в сторону спящего в кабине, – все вместе пойдем.
– Без нас как можно?! – радостно подхватил кожаный. – Дмитрий Константинович грузинские песни петь захочет, еще два голоса понадобятся. Скоро придем, дорогой.
– Вот и хорошо, – сказал Тимофеев, которого не оставляло смутное ощущение нереальности происходящего. Как будто все шло не так, как следовало бы ожидать.
Уже на крыльце дома он услышал женский смех.
Смеялась Света. Этого не случалось так давно, что он почти отвык от мелодии ее смеха.
Тимофеев задержался на ступеньках, прислушиваясь.