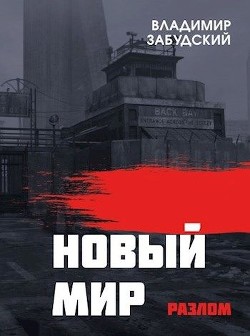Еще через десять минут, когда мы изрядно озябли, ворота вновь начали открываться. На этот раз наши ожидания оправдались. Первым въехал угрожающий бронированный автомобиль с противоминной защитной, из люка на крыше которого наполовину высунулся милиционер в утепленном шлеме, опираясь на крупнокалиберный пулемет. Мы называли его «Носорогом», хотя я не знал точно, как называется эта модель. Следом двигался большой военный джип, в котором, как я знал, едут пять или шесть вооруженных милиционеров. Лишь после него плавно ползли грузные автобусы, битком набитые людьми.
Мы с Джеромом терпеливо дождались, пока все восемь громадин, а также с десяток легковушек и еще несколько машин сопровождения пройдут проверку, вползут в селение и растянутся вдоль упирающейся в западные ворота Украинской улицы, а ворота захлопнуться. После этого мы уверенно направились к восьмому автобусу, зная, что мама обычно едет на нем. Как раз успели протиснуться ко входу, чтобы увидеть выходящую маму. Она была одета в теплую зимнюю куртку с меховым воротником и, как и большинство пассажиров, держала на плече сумку. При виде нас она радостно улыбнулась. Она так и думала, что я буду ее встречать. А я так и знал, что мама, как всегда, сядет в последний в колонне автобус.
Моей маме — Катерине Войцеховской, в девичестве Шевченко, было тогда тридцать пять лет. Сын, конечно, не способен оценивать свою мать объективно: для каждого родная мама всех милее. Но не только я, но и все знакомые родителей утверждали, что она выглядит моложе своих лет и очень привлекательна. Мамина особенная красота крылась не столько во внешности, сколько во внутреннем обаянии, которое с первого же знакомства располагало к себе людей. Нельзя было не почувствовать тепла, исходящего от спокойного взгляда ее выразительных карих глаз и от ее улыбки. За этой улыбкой всегда читалась искренняя доброжелательность, а не желание соблюсти приличие, и это очень подкупало окружающих.
— Привет, сынок! — мама с радостью обняла меня, но не стал слишком сильно нежничать, чтобы не позорить перед другом. — Ужас, ты же совсем холодный! Сколько вы тут простояли, минут двадцать? Сегодня мы ползли как черепахи, я думала никогда не доедем. Ой, Джером, привет!
— Здравствуйте, теть Кать, — поздоровался Джером.
— Джером, милый, да ты настоящий друг, если мерз тут вместе с Димкой все это время, и уже который раз, — улыбнулась мама. — Я настаиваю, чтобы хоть сегодня ты с нами поужинал!
— Нет, нет, теть Кать, спасибо! — торопливо стал отнекиваться друг. — Мне домой надо, я так только, с Димкой постоять… Пойду я, домой мне надо! Дима, доску мою возьми, лады?!
Конечно же, упорные уговоры мамы ни к чему не привели. Я знаю, что Джером не хотел домой и не собирался сейчас туда идти. Знаю и то, что он с удовольствием покушал бы у нас дома, в уюте и тепле, где стол всегда ломился от яств в отличие от многих других столов в Генераторном и особенно стола Лайонеллов. Но вместо этого он предпочтет в одиночестве пошляться где-то по темным подворотням, пока его отец не уснет, съесть какую-нибудь остывшую пакость из своего полупустого холодильника и уснуть полуголодным, но гордым.
Джером стыдился своей бедности. И очень злился, если кто-то напоминал о проблемах с выпивкой у его отца. Как-то он рассказал мне, что его папу собутыльники часто приводят под дверь совсем «готового» и бросают там, как мешок с картошкой. Джерому приходится волочь отца, мычащего что-то невразумительное, до кровати, снимать с него ботинки, накрывать одеялом. Джером признался, что в такие моменты он ненавидит отца. И заплакал. Но потом разозлился и взял с меня клятву, что я никому не расскажу. Мне было очень жаль друга и его «тайну» я никому не раскрыл, хоть никакой особый тайны ни от кого на самом деле не было.
Распрощавшись с другом, какое-то время я грустно провожал взглядом его удаляющуюся фигуру, задумавшись о превратностях судьбы, лишивших ни в чем не повинного паренька семейного очага. Но постепенно переключился с этой темы на разговор с мамой, которая оживленно расспрашивала как прошел мой день. Прилежно пересказав ей свои школьные будни, я задал вопрос о ее работе, прекрасно зная, что мама всегда охотно взахлеб рассказывает о своих воспитанниках. В свое время, помнится, я даже обижался и ревновал из-за этого — пока меня не научили тому, что такое «эгоизм», «ответственность» и другие серьезные вещи, которых маленькие дети не понимают.
— О, мы делаем очень большие успехи! — как всегда, мама очень оживилась. — Маричка и Пин сегодня закончили изучать алфавит, скоро начнут писать. А видел бы ты, как они едят, молодцы просто! Еще месяц назад прямо зубами все хватали, а сейчас держат вилки с ножами так чинно, будто потомственные аристократы — смотреть любо-дорого. Я возлагаю на них большие надежды. Попомни мое слово, Димка, еще до следующей зимы им удастся найти свои семьи!
— А в этом году многих пристроили?
— Пятерых всего, — мама грустно понурила голову. — Каждый год удивляюсь, почему так мало людей изъявляют желание усыновлять или удочерять наших бедняжек. Это притом, Димитрис, что в наше время сорок два процента семейных пар не могут иметь собственных детей! Виной всему стереотипы. И дурные слухи, которые раздувают журналисты. А на самом деле многие из наших детишек намного умнее и добрее родившихся в цивилизации. Если окружить их любовью и теплом — они вырастут и раскроются прекрасными, словно цветы!..
После таких историй мне порой казалось, что мама вконец разочаруется и потеряет интерес к своей работе. Но Катерина Войцеховская была сделана из прочного теста. Она принимала неудачи и испытания стоически, а каждому успеху, даже самому маленькому — радовалась от всей души. В матери я видел яркий пример человека, который искренне верит в значимость и правильность того, что она делает.
Когда-то, во времена, которые я и не помню, мама была в Генераторном кем-то вроде врача-терапевта широкого профиля. Но в сфере терапевтики не прижилась. Как она сама однажды мне призналась: нервов не хватило. Она так и не смогла избавиться от дрожи и отвращения при виде гноящихся ран, безобразных опухолей и омертвевших тканей. А насмотреться на все это ей пришлось вдоволь: в те темные времена люди массово болели и мучительно умирали от лучевой болезни и рака, дети рождались в основном мертвыми или с серьезными отклонениями, а врачи-самоучки вроде моей мамы мало чем могли помочь, но не могли с этим и смириться.
В конце концов, когда самые худшие годы миновали, мама нашла свое призвание в работе в приюте для сирот в Олтенице. Приют был основан под патронажем всемирно известного международного благотворительного фонда новозеландского миллиардера Джейсона Хаберна, штаб-квартира которого находилась в Веллингтоне.
Наше селение было достаточно тесным, и я не мог не слышать, что болтали некоторые злые языки. Сплетники говорили, будто моя мама была скверным врачом и с радостью распрощалась с клятвой Гиппократа завидев на горизонте «непыльную работенку и хорошие денежки». Но я знал, что двигали мамой исключительно искренние убеждения и желание делать людям добро. Да и назвать ее работу «непыльной» мог лишь тот, кто не имеет о ней ни малейшего понятия.
В «центрах Хаберна» по всему миру несчастных детишек, найденных на пустошах (в те годы, кажется, как раз начали входить в обиход политкорректные термины вроде «нежилой территории», заменившие у взрослых просторечие «пустоши») пытались обучать и внедрять в цивилизацию. Несчастные, обездоленные детки, которых удалось отловить на просторах разрушенного мира, были подобны диким зверькам. Зачастую они не были знакомы ни с единым человеческим словом, привыкли питаться падалью и отбросами, тяжело болели и были облучены радиацией.
Центр Хаберна в Олтенице состоял из мужественного коллектива врачей, в основном психиатров, взявших на себя тяжкое бремя адаптации искалеченных чад к нормальной жизни. Своими трудами лекари сумели превратить в полноценных членов общества многих несчастных зверенышей. Правда, еще больше оказалось тех, с кем медиков постигли неудачи. Но, так или иначе, проделанная ими работа заслуживала искреннего восхищения.