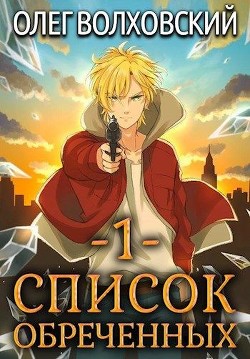— Мы никогда не знаем, где польза, а где остроумная игра ума, — заметил Саша. — И что, во что выльется. Можно?
— Лист бумаги? Бери!
Саша взял лист, разделил надвое и сложил из половинки самолетик.
Запустил вдоль необъятного царского кабинета.
Самолет долетел почти до противоположной стены и приземлился на письменный стол.
— Вот что это? — поинтересовался Саша. — Что-то полезное или остроумная игра ума?
— Остроумная игра ума, — сказал царь. — Патентовать будешь?
— Ну, что тут патентовать? — спросил Саша. — Каждый может сложить из бумаги.
— И не запатентуют, — заметил царь.
— Однако, это не остроумная игра ума, — заметил Саша. — Представьте эту игрушку увеличенной раз этак в тысячу. И она летает над позициями противника и поливает их картечью.
— На военные изобретения вообще не выдают привилегии, — сказал царь.
— Да? Теперь понятно, почему у нас в армии капсюльные винтовки с дульной зарядкой. И, говорят, гладкоствольные пистолеты. Что американская армия слабее стало от того, что у Кольта патент?
— Американская армия, — поморщился папá. — С кем им там воевать?
— С Великобританией воевали.
Царь затянулся сигарой.
— Ты без этого не можешь, — заметил он. — Обязательно найдешь на солнце пятна.
— Здесь бы солнце найти, — возразил Саша.
Государь усмехнулся.
— Саша, а ты знаешь, сколько папá — твой дедушка — дал на разработку электродвигателей этому жиду Якоби?
Саша поморщился от неполиткорректного слова. Честно говоря, не задумывался о национальности Бориса Семеновича.
— Пятьдесят тысяч рублей, — продолжил папá. — Ты только вдумайся в эту цифру! Пятьдесят! Это мы так науку не поддерживаем! Демидовская премия — пять тысяч всего. И что? Якоби переехал в Россию из Пруссии, перешел в наше подданство, поселился в Петербурге и построил свой электроход, который плелся со скоростью 2 версты в час. За пятьдесят тысяч!
— Некоторым изобретениям просто не пришло время, — заметил Саша. — Не в том смысле, что человечество морально до них не доросло, просто технологий нет. Чтобы построить телеграф, надо было, как минимум, уметь делать проволоку. И мы не знаем, чему пришло время, а чему — нет. Я был просто в шоке, когда Борис Семенович за три дня восстановил телефон. Мне полтора месяца авторучку не могут сделать. Кому только не рисовал! В разных вариантах!
— Я могу тебе дать денег на опытный образец, — предложил папá.
— Не обещаю, что не просажу, — сказал Саша. — Возможно, авторучке не пришло время.
— Попробуй. Телефон и радио того стоят.
— Спасибо. Нужны часовые мастера. В общем, те, кто умеет делать мелкие детали. Лучше всего встретиться.
— Будут, — сказал папá.
— То, что Бориса Семеновича не сослали в Сибирь после истории с грантом на электродвигатели, внушает некоторый оптимизм, — заметил Саша.
— Любишь ты англицизмы! — упрекнул папá. — Все-таки не стоит настолько засорять ими речь.
— С субсидией, — поправился Саша.
— Батюшка считал Якоби гением, так что многое прощал, — сказал царь. — Гальванопластика полезна. Правда, это стоило еще 25 тысяч серебром.
— А где российская компания «Якоби и сыновья»? — поинтересовался Саша.
— Он подавал заявку на привилегию, — сказал папá, — но ему рекомендовали опубликовать описание и выдали вознаграждение. Он не возражал. Издал книгу о гальванопластике, ее тут же перевели на немецкий, потом на английский.
— В Пруссии теперь гальванические копии покупаем? Или в Англии?
— Иногда тебя хочется убить, — сказал папá. — Нет. На заводе герцога Максимилиана Лейхтенбергского, твоего покойного дяди.
— Понятно, — вздохнул Саша. — Изобрел один, а прибыль извлекает другой. Ну, почему у нас всегда так?
— Якоби принимал участие в открытии производства. Максимилиан сначала завел лабораторию прямо в Зимнем дворце, потом гальванический цех. Его очень интересовала электромеханика. А о Якоби зря беспокоишься. Звание академика, потомственное дворянство, деньги.
— Я не о нем беспокоюсь, а о российской промышленности. Никто лучше не сделает, чем изобретатель.
Папá покачал головой.
— Не обязательно. И вряд ли Якоби изобрел бы что-то еще, став промышленником. А так сконструировал несколько моделей телеграфных аппаратов. Последний ты видел в Коттедже. Буквопечатающий.
— Это телеграф Якоби? Я никогда о нем не слышал.
— Батюшка запретил публиковать описание, — сказал царь.
— А привилегия? Ему дали привилегию?
— Нет. Папá решил, что изобретение относится к военному ведомству.
— То есть засекретил, — усмехнулся Саша.
— Да. Но Якоби повел себя не очень хорошо, показав чертежи своему немецкому другу Вернеру фон Сименсу…
— Дальше ясно, — усмехнулся Саша. — Так возникла компания «Сименс», у которой мы еще много что будем покупать.
— «Сименс и Гальске», — уточнил папá. — Уже покупаем.
— Телеграфные аппараты?
— Да. Они несколько отличаются от аппаратов Якоби.
— Это в качестве самооправдания, — заметил Саша. — Я имею в виду господ Сименса и Гальске. Внесли косметические изменения для усыпления совести. Но, честно говоря, их почти не в чем упрекнуть. Засекречивать бессмысленно. Если изобретению пришло время, значит, идея его возникнет не в одной голове, а в сотне голов одновременно. И выиграет тот, кто первым добежит до патентного ведомства.
Папá затянулся сигарой и выпустил дым в потолок.
— Мы с Якоби можем написать заявки на телефон и радио? — спросил Саша.
— Пишите, — кивнул царь. — Рассмотрим.
— Если засекретить телефон, у этого действия будет ровно один результат, — сказал Саша, — мы утратим приоритет и будем закупать аппараты в Англии, Америке или у того же Сименса. Все! Этим кончится. Потому что время пришло. По моим ощущениям, изобретение телефона — это вопрос 2–3 лет, пяти — как максимум. Только добежать до патентного бюро и дождаться привилегии. Радио может продержаться чуть дольше. Но я бы не рисковал.
— Я же сказал: пишите.
— Папá, у герцога Лейхтенбергского была лаборатория в Зимнем дворце?
— Да.
— Можно мне тоже выделить комнату?
— Ладно, посмотрим.
Папá докурил сигару, потушил, положил дымящийся окурок в пепельницу.
Позвонил в колокольчик. Слуга зажег свечи.
— Саша, — сказал папá, когда лакей ушел, — завтра у Никсы День рождения, и там будут ваши друзья детства. Ты кого-нибудь помнишь?
Саша немного запаниковал. Никого естественно! Каких-то ребят упоминал Никса, но слышать имена не значит знать. Ему совсем не хотелось возвращаться к обсуждению вопроса о своем душевном здоровье.
— Нет? — переспросил царь.
— Шереметьев, — сказал Саша. — Сергей… кажется.
— Да, Сережа. Узнаешь при встрече?
— Не уверен.
— Что ты о нем помнишь?
— Потомок графа Шереметьева и, видимо, Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой, крепостной актрисы.
— Почти хорошо, — сказал папá, — только ты ему об этом не напоминай.
— Не думаю, что это позорно. Она была красавица, играла героинь и умерла молодой, кажется, от туберкулеза, сразу после рождения сына. Я помню ее портрет в шлеме с огромным султаном из перьев и плаще с фибулой. Где-то видел…
Саша прекрасно помнил, где он его видел. В музее Кусково, естественно. Все его детство, там в будущем, прошло на улице Аллея Жемчуговой, рядом с бывшим графским имением. И интеллигентные родители регулярно таскали туда на экскурсии.
— Значит, помнишь! — обрадовался папá. — Мы у них гостили.
— Он праправнук?
— Нет. Почему ты так думаешь?
— В Кусково есть стела, посвященная визиту прапрабабушки. Я ее помню. Поэтому подумал, что, наверное, праправнук.
— Она раньше поставлена, — заметил царь. — Саш, ты никогда не был в Кусково. Два года назад мы неделю жили у них под Москвой. Но в Останкино. Ты там мог видеть портрет.
Саша пожал плечами.
— Может быть, читал о Кусково или видел на картине, или мне кто-то рассказывал. Например, Сережа. Он мог ее видеть?