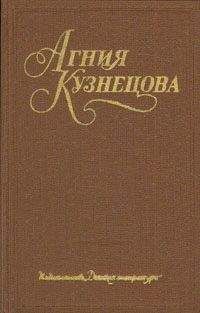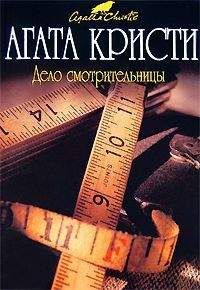— Ты ищешь сложные пути поступления, — заметила Роза. — Никто из-за твоего института не развяжет войну. Даже с Израилем.
…И он поступил в Холодильный. Вернее, Роза поступила его туда. Она выступила перед членами приемной комиссии. Она говорила, что у нас дома есть холодильник, что он сам сибиряк, что его папа — то есть я — обморожен, что у нас в квартире всегда страшный холод, что мой сын любит мороженое, что она в сорокаградусный мороз ходит почти без пальто, что мой сын почти «морж» и что он обожает мороженые рыбу и фрукты. Она говорила о холоде с таким жаром, что ледяные сердца членов комиссии растопились.
И вот так, мои дорогие сардинские единоверцы, мой сын кончил Холодильный. И работает на каком-то вонючем холодильнике, где хранят рыбу — и даже не фаршированную.
А они его не выпускают и говорят, что он знает какой-то секрет и что если он приедет сюда — он ослабит их обороноспособность.
Азохун вей им, если секрет хранения тухлой рыбы может ослабить их обороноспособность!..
А теперь скажите мне, только откровенно — вы не могли бы ему помочь? Это мировой парень.
А вы все-таки, как-никак, Фронт освобождения сардинских евреев. Хотя их тут почти и нету. Да и освобождать не от кого. Может, вам стоит расширить зону вашей деятельности? Спасите для начала одного советского. Что вам стоит, а?..
ЯНКЕЛЕВИЧ в зал.
ЯНКЕЛЕВИЧ. И они пообещали. Чего только не сделаешь в ожидании трех миллионов…
В тот же вечер меня неожиданно посадили в ту же самую шикарную машину, отвезли почему-то в лес, выбросили и умчались…
И я никак не мог понять, с чего это вдруг — почему хозяева, принимавшие меня, как барина, ни с того, ни с сего поступили, как хозейрем…
Вскоре я узнал, что они были таки хозейрем.
Но я недолго думал об этом…
Кругом стояли сосны, и вечернее солнце освещало их красные стволы. Пахло хвоей и детством, и я стал бродить по этому лесу. Все тут мне напоминало родные места — и кроны деревьев, и ягоды, и красный вереск.
И солнце было тем же, и его теплые лучи.
И облако, и муравей.
И крики птиц, и мох, и кора на деревьях.
Из такой коры я мастерил когда-то кораблики, с парусами из простынок, которые давала мне мама.
Они уплыли далеко, эти кораблики, и сам я заплыл черт знает куда… Один, на всем корабле.
Я ходил по этому лесу и никуда больше не тянуло меня.
А потом я сел на пригорок, прислонился к теплой сосне, закрыл глаза и уснул.
И ЯНКЕЛЕВИЧ сел.
И дерево детства охраняло меня…
…Я летал с Розой по голубому небу, и мы беседовали друг с другом, и с чайками, и с пролетающим буревестником.
А внизу лежала Белоруссия, где родился я, где родился Векслер, создатель синхрофазотрона, где родился Илья, который ничего не изобрел, но которого не выпускали.
Над Витебском мы повстречали Шагала.
Он тоже летел с женой.
— Смотри, вот он, вот он, — сказал Шагал жене.
— Шолом Алейхем, — поздоровался я.
— Вы живы, господин ЯНКЕЛЕВИЧ? — поинтересовался Шагал.
— Да, я жив, я все еще жив.
— Вы живы?..
— Ну да, почему бы и нет?
— Но где вы пропадали?
— Летал вместе с вами.
— Где вы пропадали, где вы пропадали, — звучал откуда-то голос.
ЯНКЕЛЕВИЧ медленно поднялся.
ЯНКЕЛЕВИЧ (в зал) Я раскрыл глаза и увидел склонившегося надо мной председателя Шаца. Он тряс меня.
— Где вы пропадали? — говорил он.
…А я думал, что это Шагал…
— Летал вместе с Шагалом, — ответил я.
— Но вы живы?
— Вы же видите. Почему бы и нет?
— Мы боялись, что они могли вас убить.
— Кто? Шагал с женой?!
И тут председатель общины побелел. Он обернулся к окружавшим его евреям.
— Они мучали его, — сказал он, — он тронулся, он ничего не понимает… Вы помните, где вы были, господин ЯНКЕЛЕВИЧ?
— Почему бы и нет, — возмутился я, — я вам уже сказал тысячу раз! Я летал с Розой, а до этого был в гостях.
— Ну, вы видите, — сказал Шац евреям в доказательство того, что я мишуге.
— Простите, — сказал я, — но я ничего не понимаю. У вас что-нибудь случилось? В чем дело? Почему паника?
— Только не волнуйтесь, — мягким голосом произнес Шац, — все будет хорошо… Закутайте его в одеяло — и в машину.
И евреи закутали меня в одеяло и, словно дитя, понесли к машине.
И снова Шац повторял — все будет хорошо, все будет замечательно!
— Послушайте, — закричал я, — хватит причитать. Генуг! Что у вас, наконец, произошло?!
— У нас?! — вскипел Шац. — Это у вас, а не у нас! Это вас похитили, а не нас!
— Меня? — удивился я. — Да кому я нужен?
— И убили бы, если бы мы не дали выкуп.
— Какой еще выкуп?
— Сумасшедший, — выпалил председатель, — три миллиона!
Я не мог сдержать смех.
— Три миллиона, — хохотал я, — за меня?! За старый шкаф, выброшенный на свалку — три миллиона?! И вы что — действительно дали?
— А как же?
— С ума сошли! Зачем?!
— Вы нам дороги, — сознался председатель. — И потом, евреи должны спасать евреев.
Вы не поверите — мне захотелось поцеловать председателя…
— Ей Богу, дорогой, — повторял я, — я этого не стою!
— Но он меня успокаивал:
— Стоите, поверьте мне. И гораздо больше!
…Боже, если б это видела Роза, если б она знала, что за жизнь ее Хаимке дали три миллиона! Целую еврейскую школу с бассейном!.. Я был готов для них сделать все! Даже заслонить грудью амбразуру, как это делали во время войны.
Если б это, конечно, понадобилось.
Но Шац сам сказал, что надо сделать:
— Прежде всего — отдать три миллиона. И добавил — а также три миллиона на школу.
Я… я обалдел. Я начал заикаться.
— С удовольствием, — прозаикался я, — но где я их возьму?
Шац стал очень строгим.
— На все свое время, господин ЯНКЕЛЕВИЧ, — сказал он, — и сейчас не время шутить!
Как будто я шутил! Я ему так и сказал:
— Но где мне достать шесть миллионов, когда у меня нет на зубы? Взгляните на мой Авиньонский мост!
И ЯНКЕЛЕВИЧ раскрыл рот.
Шац даже не взглянул! «Не разыгрывайте мишуге, — раздраженно произнес он, — а ракеты? А Калашников? Наконец, авианосцы?»
— Послушайте, — сказал я, — вы же, вроде, умный еврей. Вы что — поверили, что я торгую этой заразой?
И тут председатель раскрыл рот, точно, как я, хотя там и не было Авиньонского моста.
— А-а что, нет? — выдавил он. — А телохранитель? Телохранитель?! Зачем он вам вдруг понадобился, я вас спрашиваю? От чего тогда вас охранять?
— От одиночества, — ответил я ему.
— Но от одиночества не охраняют, — возразил председатель.
— Что вы знаете, — вздохнул я. — Разве вы были когда-нибудь старшим бухгалтером из России, которому не с кем сказать слова? Вы представляете себе еврея, которому не с кем говорить?
За три года вы даже не поинтересовались, откуда у меня шрам?
И тут он вдруг спросил — «откуда»?
— Поздно, — сказал я, — я уже об этом поведал моему телохранителю. Он охраняет меня, и мне кажется, что я охраняю его…
Председатель не хотел слушать. Он перебил меня:
— То есть, у вас нет даже миллиона?
— Можете быть уверены! Ни копейки.
— На какие же деньги, простите, мы вас выкупали?
— Во всяком случае — не на мои.
— Но миллионы!
— Что вы шумите, — тихо сказал я, — я вас просил выкупать? Мне там хорошо было. Если они вам отдадут деньги — я могу вернуться…
— Убирайтесь, — прошипел Шац.
Я надеюсь — вы помните, что я был в машине?
— На ходу, — удивился я, — остановите хотя бы машину…
И они меня высадили, как те хазейрем, хотя, в общем, это были не хазейрем…
И я пошел не домой, а в телефонную будку и позвонил своему телохранителю.
ЯНКЕЛЕВИЧ взял трубку.
ЯНКЕЛЕВИЧ (в трубку) ДЖАГА? Я на свободе. И вы можете меня немного поохранять.
(И высветился ДЖАГА, и они обнялись и хлопали друг друга по плечу и спине, и, как показалось ЯНКЕЛЕВИЧУ, ДЖАГА даже плакал).
ЯНКЕЛЕВИЧ. Ну, что вы, ДЖАГА… Все это пустяки. Какие-то три миллиона — и я на свободе.
ДЖАГА. Я не сумел вас защитить. Не могу себе простить.
ЯНКЕЛЕВИЧ. Это все неважно, друг мой. Пустяки… Некого было защищать. Я ничем не торгую… И встречаюсь с вами потому, что вы единственный человек на всей земле, который слушает мои майсы… (они оба помолчали, глядя друг на друга).
Да, ДЖАГА, вы не поверите… Когда я родился, там, в России, в Мозыре, на моем лице была улыбка. В те годы это была такая редкость. Сейчас, впрочем, тоже…