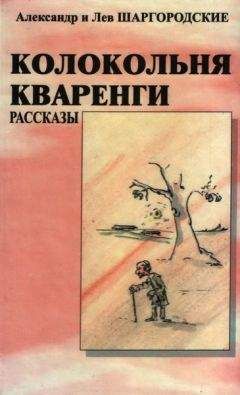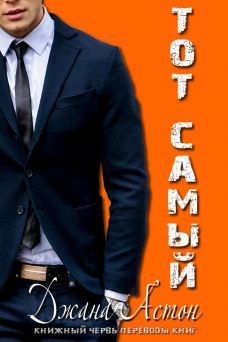Родители спали. Может, они уснули всего час назад.
Я встал и спокойно сообщил об этом мудрому папе.
Папа ничего не понял. Он подумал, что опять пришли. Что снова обыск.
Спросонья он снял со стула пиджак, достал бумажник и протянул мне рубль:
— На, сходи в кино.
— Я не хочу в кино, папа, — сказал я, — я хочу уехать.
Папа несколько проснулся.
— Куда? — спросил он.
— Домой, — ответил я.
Папа протер глаза.
— А разве мы не дома?
— Нет, — ответил я.
Папа испугался. Он разбудил маму. Они вместе трогали мой лоб.
— Что с тобой? — повторял папа. — Вот наша комната, вот стена, которая заслоняет нам свет, вот шкаф, с которого начинается обыск. Какой еще дом?! Ты родился в этой бочке, сынок! И я родился в ней…
— А где родился наш дедушка? — спросил я.
— На Украине, — ответил папа.
— В Белоруссии, — ответила мама.
С ужасом они глядели на меня.
— Тогда где прадедушка? — поинтересовался я.
Они не знали. Они сидели, накрывшись одеялами, дрожали и не знали.
— К-какое это имеет значение? — спросил папа. — Тем более, в шесть утра?
— Прадедушки родились в Малаге, — сообщил я, — оба!
— Т-ты х-хотел сказать в М-мозыре? — спросила мама.
— И-или в М-мястковке?
— В Малаге! — твердо повторил я. — В Испании, в квартале точильщиков камня.
Они окаменели. И я убедился, что их предки действительно точили камни.
Папа все понял.
— То есть, ты хочешь уехать из страны, а не из нашей бочки, — констатировал он.
— Вся страна — боч…, - начал я, но мама заткнула мне рот.
— Ша, — сказала она, — ша! — и повернулась к папе. — Теперь ты понимаешь, что они правы?
— Кто?
— Кто приходит делать этот обыск! Они ищут этого «испанца», — она указала на меня, — а ты его все время отправляешь в кино.
— А ты б хотела, чтоб они его нашли?
— Ша! — опять ответила мама, — если б мы…
— Послушайте, — перебил я, — давайте уплывем в Малагу.
— Ша! — опять вскричала мама, — ша!!!
Это было ее любимое слово…
— И почему именно в Малагу?
— Если б вы там побывали, вы бы поняли, почему, — ответил я, — вы б там все узнали. И дворик, и окно, и волны. А в Неаполе я бы вас познакомил с Аполлонией.
— Это еще кто? — спросила мама. Но я не ответил на этот вопрос…
…Как давно это было, друзья мои. Мы еще многие годы жили в этой бочке. А потом все-таки уплыли. Правда, не в Малагу. Малага почему-то нас не брала. Мы ходили в испанское посольство, мы говорили:
— Взгляните на нас, мы испанцы, мы испанские евреи, каменщики с улицы Иегуды Галеви, мы даже окаменевали — ничего не помогало.
Мы уплыли не в Малагу, но я всегда мечтал о ней. Волны Средиземного моря плескались во мне…
И в прошлом году я поплыл туда, на большом корабле. Не всякое море может вместить такой — но Средиземное вместило.
Это был странный корабль — он заходил в те же порты, что и теплоход «Победа» двадцать девять лет назад в далеком кинотеатре…
Я болтался по тем же улицам, и те же простыни и панталоны радостно приветствовали меня. Ничего не изменилось, только заплаты на них стали несколько больше…
На Марсельском рынке меня узнала старая торговка.
— Как вы изменились, — сказала она, — держите, вот ваша щука. Не забудьте ее опять.
— Зачем, мадам, — ответил я, — папы нет, и никто из нас больше рыбы не любит…
На пирейском базаре я купил груду персиков, хотя зачем мне было столько? — я уже переелся ими.
Я купил груду персиков, выбрал самый румяный и протянул лотошнице.
— Это вам.
— Зачем? — удивилась она.
— Лет тридцать назад я украл у вас точно такой же…
— Я помню, — протянула она, — Вы думаете, я обеднела? Вот если б вы мне вернули мои годы…
И в Стамбуле живот продолжал танцевать. Он, правда, несколько постарел, но был так же подвижен и загадочен. И смотрел на меня добродушно. Наверное, потому, что у меня уже был свой живот… Который тоже подтанцовывал…
В Неаполе меня окликнули.
— Ушастик, — услышал я, и снова замер. На балконе, под простыней, под голубым небом стояла Аполлония, а вокруг кричали дети. Напевно и Мелодично.
— Аполлония, — сказал я, — это твои братья и сестры?
— Это мои дети, — ответила она.
— Вот я и приплыл, — голос мой был печален, — как жаль, что ты не дождалась меня…
— Тебя так долго не было, — сказала она, — а мы выходим молодыми.
— Я долго болтался по морям, — ответил я.
— Я писала тебе, — сказала Аполлония, — Ленинград, бочка Диогена…
Я улыбнулся ей, потом помахал рукой и пошел в порт…
На губах у меня был вкус ее поцелуя…
Мы плыли долго. Пароход был весь белый. Я тоже — брюки, рубаха, голова. Наконец, мы прибыли в Малагу.
Узкими, жаркими улицами я пошел к моему дому. Он белел под белым солнцем. Я поднялся по ступеням его и остановился у двери. Медный лев смотрел на меня. Я мог войти. Я это знал — сейчас я мог войти. Нажать на бронзовую ручку — и оказаться внутри. Ничто не мешало мне…
Я нажал на нее. Двери скрипнули… и вдруг, необъяснимо и фантастически, я оказался на балконе, в третьем ряду, в кинотеатре «Титан»…
Через три ступеньки я сбежал по выщербленной лестнице, вылетел на вечерний Владимирский, прямо перед громыхающим трамваем перебежал его, влетел на второй этаж, в нашу темную комнату, в нашу бочку Диогена, где пахло оладьями и «Беломором», к молодым маме и папе, которые улыбались мне.
— Простите, я задержался, — сказал я, — я задержался…
Школьный инспектор сел на заднюю парту, и двоечники успокоились — они точно знали, что сегодня их никто не спросит. Даже Баранов, проводивший половину времени за дверью, мог спокойно сказать, что будет дальше: сейчас Нина Антоновна попросит не ударить в грязь лицом, затем скажет, что вызовет первых попавшихся, и, ткнув наугад пальцем в журнал, вызовет, как всегда, Мальцеву и Каца.
Начался урок. Нина Антоновна улыбнулась и, оглядев класс, сказала:
— Прошу вас не ударить в грязь лицом. Сегодня я вызову первых попавшихся, так что все собирайтесь с мыслями.
Она раскрыла журнал, глядя на инспектора, ткнула пальцем в список фамилий и — инспектор мог биться об заклад с кем угодно, что она попала или в Каца, или в Мальцеву.
— Мальцева! — произнесла Нина Антоновна.
Инспектору стало скучно — только за последний год он слушал Мальцеву семь раз! — «За что?» — подумал он.
Их было семнадцать, инспекторов, многие из которых в глаза не видели Мальцеву, но сюда присылали именно его.
Бодрым задорным голосом Мальцева рассказала о всемирно-историческом значении комедии Гоголя «Ревизор», отметила ее огромную обличительную силу, попутно сообщила о разложении русского дворянства первой половины девятнадцатого века и, назвав комедию бессмертной, а Гоголя великим, замолчала. Инспектор был несколько разочарован — он ожидал, что Мальцева назовет комедию бессмертной минимум два раза; меньше обычно никто из читавших ее не называл. Не читавшие называли по восемь-десять раз!
— А теперь к доске пойдет…, — учительница стала внимательно просматривать список.
«Кац! — хотелось крикнуть инспектору. — Что ты там мучаешься?.. Кац пойдет к доске… Кац!»
— К доске пойдет Кац, — произнесла Нина Антоновна.
Кац встал и пошел к столу.
— Ну, что ж, Александр, ответь нам… — начала Нина Антоновна.
— Виссарион Григорьевич Белинский, — не дослушав, произнес Кац, очень высоко оценивал бессмертную…
— Кац!!! — Нина Антоновна покраснела. — С чего ты взял, что я тебя хотела спросить об оценке Гоголя Белинским?
Она действительно хотела об этом спросить, но произошла накладка — Кац несколько поторопился — и сейчас Нина Антоновна лихорадочно искала другой вопрос.
— Вот что, Александр, — сказала она, — я хочу тебе задать несколько необычный вопрос… Хм… Назови нам, пожалуйста, своих любимых классиков и коротко расскажи о каждом.
Мальчик начал перечислять: Чехов, Гоголь, Грибоедов, Сухово-Кобылин…
Нина Антоновна торжествующе посмотрела на инспектора.
— Достоевский, Толстой и Кац, — закончил Кац.
В классе раздался смешок.
— В чем дело? — спросила учительница, — Александр, повтори, что ты сказал?
— Достоевский, Толстой и Кац.
— Это кто — Кац? — мягко спросила она.
— Папа, — ответил мальчик. — Кац — это мой папа…
Нина Антоновна собрала волю и широко улыбнулась.
— Я знаю, ты — шутник, Александр, — сказала она, — но здесь не место…
— Я не шучу! — произнес мальчик.
Наступила пауза. Ни в одной из инструкций ни слова не говорилось о том, что делать в подобных случаях.