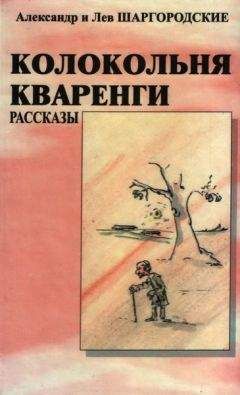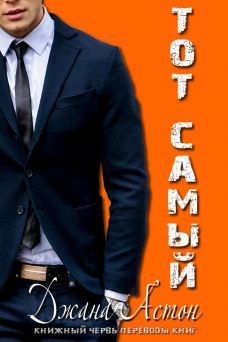И махнул нам рукой.
Вскоре начались бомбардировки и голод. От папы приходили редкие треугольнички.
— У меня все в порядке, — писал папа, — дали одно ружье на троих. Как вы? Как пластинка? Когда идете в бомбоубежище — не забудьте брать ее.
Мы несли ее туда, завернув в пуховый платок. В морозы засовывали в подушку и сверху накрывали одеялом. В темные ночи мама повторяла мне:
— Если мы сбережем пластинку — папа вернется.
Я не понимал этого, но старик Бернштейн в бомбоубежище однажды объяснил мне, что человек не все должен понимать. Мама уже давно отдала патефон за три плитки шоколада и ежедневно добавляла к моему рациону маленький коричневый кусочек. Она променяла все наши вещи на еду, и лишь папина пластинка бережно хранилась в пуховой подушке.
Потом папу ранили. Мы побежали к нему в госпиталь на Фонтанку. Он лежал в огромном зале, в темноте, в стонах, перевязанный.
Мы обнимались в темноте ленинградской блокады и говорили друг другу нежные слова. Я уж не помню, какие.
— Как вы похудели, родные мои, — вздыхал папа, — как осунулись! А как пластинка?
— Не похудела, — ответила мама.
Мы подробно рассказали, как храним ее.
— Молодцы, — говорил папа, — я вернусь, и мы вознесемся, после войны мы заведем патефон, и вы увидите счастье. Должно же, наконец, придти счастье…
Он был романтик, мой папа, он ждал счастья, как другие Мессию.
Голод стоял невыносимый. Я уже не мог переносить холодов. Мы стали готовиться к эвакуации. В картонный чемодан мама положила платок, мои рейтузы, теплое белье и пластинку — больше не было сил тащить — и мы покатили на грузовике по Ладожскому озеру. Сверху падали бомбы. Машины вокруг нас тонули в пробитом льду.
— Мы приедем, — повторяла мама, — пластинка нас спасет.
Она оказалась права — мы добрались до берега.
Мама моя выехала из Ленинграда черноволосой, а из грузовика вышла белой. Я боялся спросить, что с ней случилось. Я чувствовал, что за этими белыми волосами стоит что-то страшное. Я только взял ее ладонь и крепко сжал ее.
А потом нас повезли в Сибирь, в тыл, в деревушку Арачинск. Там нас уже ждала бабушка Бася, прибывшая до нас из Белоруссии. Когда мы постучали в двери ее комнатки, она не узнала нас, так мы исхудали и изменились. Она дала нам картофелину и пару луковиц.
— Гей, гей, — сказала бабушка Бася. — Идите.
И только когда мама заплакала, бабушка признала в ней свою дочь.
Она разогрела воды и отмывала нас весь вечер в огромном эмалированном тазу.
Потом мы ели мамалыгу — лепешку из кукурузной муки и пили липовый чай.
Бабушка смотрела на нас и вздыхала:
— Вейз мир, — говорила она, — в какое время мы живем! Чтоб «маме» не узнала свою «тохтер», вейз мир!
Все вместе мы начали жить в семиметровой комнатке. Я чистил картошку, мама варила щи, бабушка готовила мамалыгу. От этого времени войны и разрухи у меня осталось ощущение покоя и тепла. Почему — объяснить не могу, возможно, оттого, что жили мы дружно, читали при свече и в темноте пели военные песни.
«Вперед, за взводом взвод, труба боевая зовет…»
И я все видел папину спину и как он потом обернулся и махнул нам рукой.
Вскоре от папы пришла телеграмма: «Встречайте семнадцатого».
Мы перечитывали ее дня четыре.
— Видишь, — говорила мама, — пластинка его спасла.
Мы начали готовиться к встрече. Ели мы обычно скудно, а тут вдруг бабушка выложила на стол рыбу, утку, копченого угря, приготовила шейку, печеночки и форшмак.
Мы обалдели.
— Где ты все это достала? — спросила мама.
— Что, жалко для такого зятя, как у меня, — ответила бабушка. — Он приедет часа через четыре, вы пока кушайте.
— Но откуда ты взяла такие деньги? — настаивала мама.
— Какое ваше дело — кушайте, кушайте…
Я пробовал то, другое.
— Ну как? — интересовалась бабушка.
— Объеденье! — говорил я.
Маме ничего не лезло в рот. Ей было не по себе. Неожиданно она подошла к подушке и сунула в нее руку — пластинки не было.
— Я так и знала! — вскричала мама. — Где пластинка?!
— У вас в животе, — отвечала бабушка Бася.
— В каком смысле?
— Я ее продала на рынке. Должны ж мы достойно встретить моего зятя, раненного в боях.
Маму охватил ужас. Пластинка хранила папу, а сейчас ее не было. За три часа до приезда.
— Ты с ума сошла! — произнесла мама.
— Почему? — бабушка не понимала. — Зачем тебе речь одного ганефа на похоронах другого?
Бабушка не была в курсе всей этой эпопеи.
— Кому ты ее продала? — спросила мама.
— Я знаю? Грузину.
— Какому грузину?
— Усатому, в кожаной тужурке. У него были все речи Сталина, кроме как на похоронах Орджоникидзе.
— Побежали, — мама схватила бабушку за руку, — ты мне его покажешь.
— Мишуге, — кричала бабушка, — мне 53, я не могу так нестись…
Мы прибежали на базар. Грузин был на месте. Мама начала его умолять отдать пластинку.
— Нэт, дарагая, — говорил он, — товарыща Сталыне — не отдам… Лэнин — бэри, Ворошилов — бэри, эту не отдам…
Мама говорила, что там никакого Сталина нет — грузин не верил.
Мама предлагала ему все, что у нас было, — грузин крутил головой. Время шло. Папин поезд приближался. Неожиданно маму осенило.
— Кацо, — сказала она, — за харчо отдашь?
Глаза фузина расширились и запылали, усы раздувались.
— За харчо — отдам, — сказал он.
Тут же на базаре мама купила баранины, специй, лука, красного перца — у нее не осталось ни копейки — и побежала готовить харчо. В молодости она жила в Тбилиси и знала толк в грузинской кухне. Грузин, торжественно сидел за столом и закатывал глаза от запахов, долетавших из кастрюли.
— Хачу харчо, — повторял он, — хачу харчо!
Наконец, мама поставила перед ним миску. Он ел взахлеб, погрузив в жаркий суп свои усы. Первую порцию он выдул моментально, поднял голову:
— Хачу харчо, — повторил он.
Мама налила вторую миску. Третью, четвертую. Грузин ел и ел, каждый раз провозглашая «Хачу харчо». Мы явно опаздывали на поезд.
— Кацо, — сказала мама, — не пора ли отдать пластинку?
— Еще один харчо, генацвали, — сказал грузин, — и по рукам!
Мама выскребла все, что было в кастрюле. Грузин жадно чавкал, пил жидкость без ложки, мясо срывал, держа косточки в жирных пальцах.
Наконец, он отдал пластинку. И в это время вошел папа — худой, бледный, на костылях.
— Почему не встречали? — спросил он. — Что-нибудь с пластинкой?
— Нет, — сказала мама, — вот.
И протянула только что полученную пластинку.
Только после этого мы обнялись и расцеловались. До утра папа рассказывал, как он к нам добирался, а мы — про нашу, сибирскую жизнь,
В первую же ночь папа начал мечтать о патефоне. Арачинск был далекой провинцией, патефон еще сюда, можно сказать, не дошел, вернее дошел, но всего один, и принадлежал он партии. Стоял патефон на почетном месте в горкоме — на деревянном постаменте под красным знаменем, и заведовал им специальный человек, или как его все называли, — директор патефона. В его обязанности входило всячески оберегать патефон от кражи и показывать его группам школьников, как чудо 20-го века.
На следующее же утро после приезда папа на костылях поплелся к этому человеку. Директор патефона сидел в натопленной комнате и пил из бутылки водку.
— Чего надо? — глухо спросил он и поднял лицо.
Папа обалдел — директором патефона был Гаврилов.
— Вот так встреча! — вскричал папа.
Гаврилов тоже обрадовался и тут же налил папе в стакан.
— Пей, Моисеич, пока война! Кончится — поздно будет!
Они опрокинули за победу.
— Моисеич, — орал Гаврилов, — если б не твои подштанники — все б яйца отморозил! Смотри — две пары ношу. Сибирь, бля! А ты говорил «зачем?».
Гаврилов похудел и стал тоньше папы.
— Говном кормят, — жаловался он, — если б не водка — помер бы.
Они долго вспоминали Ленинград, двор, довоенную жизнь.
— Об одном сожалею, — вздыхал Гаврилов, — мало пил.
Папа внимательно слушал жалобы алкоголика, затем перешел к делу.
— Слушай, Гаврилов, — начал он, — говорят, ты директор патефона?
— Два года, — сказал Гаврилов.
— Ты не мог бы мне его одолжить?
— Опять за старое, — протянул Гаврилов, — ты просто помешался. Я ж тебе один отдал.
— Тот на шоколад ушел, дай мне этот.
— А что я буду школьникам показывать? — спросил Гаврилов.
— А я на ночь возьму. Школьники ночью приходят?
— Не школьники, так инспектор, что я ему скажу?
— Вот, — сказал папа и положил перед директором патефона шмат свиного сала, — найдешь, что сказать?
— Опять ты мне свинью подкладываешь, — сказал Гаврилов, — там — сандалии, тут сало. С чем есть-то его?