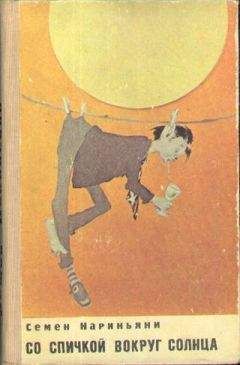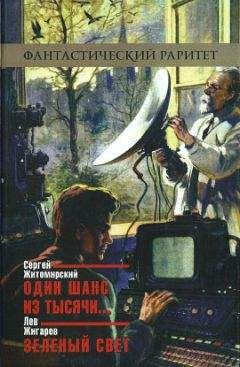— Например?
— О…о! То, что я узнал, теперешние газеты все равно не напечатают.
— А вы все-таки скажите.
И Катинов начинает читать ответы, которые он получил на свои вопросы от командорши:
— «Красите ли вы губы? Нет. Ваш любимый цвет? Голубой! Сорт пудры, которой пудритесь? Рашель! Сорт мыла, которым моетесь? Банное! Любимый фасон блузки? Рукава три четверти! Юбки? Клеш!»
— Это все, что мы можем сообщить о командоре пробега?
— Я имею сведения о ее муже. Блондин. Рост сто восемьдесят сантиметров. Вес семьдесят восемь килограммов. Размер ноги — сорок три.
Я слушаю Катинова, а сам думаю: боже, боже, и зачем ты только наградил моего учителя феноменальной проходимостью? Проберись в баню не он, а, скажем, я! Стоя с гаечным ключом на второй ступеньке в парильне, я бы говорил с командоршей не про «банное мыло» и не про «размер ноги ее мужа». Я бы выбрал тему поинтереснее.
А Рябоконь не ждет. Он стучит в дверь, требует полосу. Полоса у нас, конечно, не получилась. Все, что узнал Катинов про «рукава три четверти» и «пудру рашель», пришлось бросить в корзину. Я взял телеграммы РОСТА с мест стоянок женского пробега, разбавил их географическими сведениями, которые сохранились у меня в голове со школьных времен, и сделал из пятистрочной заметки интервью «нашего специального корреспондента с командором пробега» на две колонки до подвала.
Катинов прочел это интервью, растрогался и произнес по моему адресу самую большую похвалу, на которую только был способен:
— Если бы не советская власть, ты Коляка, свободно мог бы стать вторым Блехманом.
Блехман когда-то считался королем московских репортеров. Блехман мог не только в одно ухо влезть, из другого вылезть. Он мог писать заметки различных размеров: на пять, десять и даже двадцать строк.
Но советская власть была. Ей шел уже восьмой год, и я не стал вторым Блехманом, наш редактор Андрей хотел сделать из меня комсомольского Мих. Кольцова, А комсомольский Мих. Кольцов не получался. К завтрему мне нужно было написать первый свой фельетон, а он не писался. Шесть часов просидел я за столом и не мог выжать из себя даже начала. В полночь я наконец не выдержал, сел в трамвай № 28 и отправился на Красную Пресню. Недалеко от зоопарка я вошел в трехэтажный дом и позвонил у двери квартиры № 20. Сонный голос моего учителя спросил из дальней комнаты:
— Кто там?
— Я.
Жил мой учитель в двухкомнатной квартире. В дальней он спал, в ближней — она называлась рабочим кабинетом — писал поздравительные открытки нужным людям. Катинов пригласил меня в кабинет.
— У тебя срочное дело?
Теперь уже я смотрел на учителя молящими собачьими глазами.
— Мне нужно написать к утру фельетон. Помогите!
Катинов потер переносицу и деловито задал свой коронный вопрос:
— А что я буду иметь с этого?
— Пачку «Пушки».
— Я не главный редактор, Я курю не «Пушку». Я курю «Шедевр».
Катинов язвил не без основания. В те годы недельный заработок репортера был больше месячной зарплаты главного редактора.
— Хорошо, я куплю вам «Шедевр».
— «Шедевр» куплю я сам. А ты поставишь мне бутылку шампанского.
Делать было нечего, и я согласился.
— Чтобы писать хорошие фельетоны, нужно иметь хорошую фамилию. А ты Петров. Фельетонист, который не имеет хорошей фамилии, должен придумать себе псевдоним.
— Какой?
— Дон Аминаго! Гомункулюс! Или на крайний случай — Коля Петер.
— Хорошо, я придумаю. Говорите, что дальше?
— Дальше нужна тема.
Я вытащил из синей папки две бумажки и сказал:
— Тему дал главный. Про комсомольского выдвиженца Петю Величкина.
— Это не тема для фельетона.
— Величкин не просто выдвиженец. Его горком ВЛКСМ послал в счет тридцати заведовать магазином. Все другие выдвиженцы оправдали доверие горкома, боролись с обмером, обвесом, а Величкин не оправдал.
— Это не тема, — снова повторил Катинов.
— Величкин за две недели работы в магазине растратил три тысячи рублей.
— За две недели? Это тема. Куда же твой Величкин дел три тысячи рублей?
— Не знаю.
— Я знаю куда! Величкин оставил их в «Праге».
— Как это — оставил?
— Пропил.
В «Праге» кутили нэпачи, растратчики и воры. Пойти в «Прагу» для нас, комсомольцев, значило изменить делу революции. Величкин мог соблазниться деньгами, пасть, но не до такой же степени, чтобы пойти в «Прагу» и пить заодно с нэпачами.
— Не будь дураком. «Прага» — чудное место. Там шашлыки, цыгане, девочки.
Я сплюнул.
— Ты что, никогда не был в «Праге»?
Я сплюнул вторично. Катинов обозлился и сказал:
— Ханжа и фанатик никогда не станет хорошим фельетонистом. Ты знаешь, где писал фельетоны Аркадий Аверченко? В ресторане! И это не случайно. Пение цыган, звон бокалов, брызги шампанского способствуют творческой фантазии сатирика. Тебе обязательно нужно сходить в «Прагу».
Я метнул недобрый взгляд.
— Пойти не для личного удовольствия, а со служебной целью. Ты должен видеть, знать обстановку, в которой советские люди пропивают казенные…
— Не казенные, а народные.
— Совершенно правильно: народные деньги. Комсомольский выдвиженец Величкин заказывал шампанское не по одной бутылке, а дюжинами. Кидал цыганкам под ноги червонцы. Ты думаешь, деньги, которые швыряет девочкам человек широкой натуры, падают на землю обычными бумажками? Нет! Они плывут по залу белыми лебедями, а прекрасная цыганочка кружит вокруг и поет одному тебе густым меццо:
Расскажи, расскажи мне, бродяга,
Кем ты был и что стало с тобой.
— А может, Величкин не кидал цыганкам под ноги белых лебедей?
— Только в железнодорожных расписаниях должно быть сто процентов правды. А в газетном фельетоне вполне хватит пяти или десяти. Так что пиши, Коляка, не стесняйся, читатель любит хлесткий сюжет.
Фельетонист может фантазировать! Катинов подал соблазнительную мысль, и я загорелся. Сказал: «Спасибо, до свиданья» — и выскочил на улицу.
Два часа ночи. Трамваи уже не ходят. От Пресни до Таганки, где я живу, не меньше полутора часов пешего хода. А мне нужно спешить. Завтра мой фельетон должен лежать на столе у редактора. В темноте у заставы показались два ярких глаза.
«Частный прокат», — думаю я, выскакиваю на середину мостовой и поднимаю вверх руку:
— Стой!
В кармане у меня полтора рубля. Черт с ними, с расходами, лишь бы скорей сесть за сцену в ресторане. Уж я распишу этого прохвоста Величкина.
Рядом останавливается машина, и я вижу, что это не такси тех времен с надписью через весь кузов «Частный прокат», а «скорая помощь».
— Простите, ошибся.
— Тебе куда?
— Вы, наверное, спешите к больному?
— Ничего, дадим кругаля. Садись!
Мы мчимся по темным улицам города. Я сижу рядом с шофером, и мне чертовски неловко перед тем больным, который сейчас ждет «скорую». А что, если он не дождется врача, умрет? Но вот наконец Таганка. Шофер тормозит у дома в Товарищеском переулке. Я протягиваю ему рубль.
— Я не один. Мы с доктором, — говорит шофер и протягивает руку за добавкой.
Я оборачиваюсь назад и вижу внутри машины человека в белом халате. Он смотрит на меня. Подмигивает, точно хочет сказать: «Добавь чуток, рубля на двоих мало».
— Ах, гады, паразиты. Значит, вам не впервой давать кругаля!
Я добавляю полтинник и смотрю вслед машине, чтобы лучше запомнить ее номер.
Странное дело журналистика. Я еще не написал свой первый фельетон и уже ловлю себя на мысли, что собираюсь писать второй.
Парадная дверь закрыта. Иду через двор к черной лестнице. Мои домашние давно спят, и, чтобы не будить, не тревожить их, я устраиваюсь писать в кухне, на подоконнике. На сей раз мне не» приходится долго ждать вдохновения. Я только макнул перо в чернильницу, и фельетон пошел. Что из того, что я ни разу не был, не кутил в ресторане, сцена в «Праге» писалась лихо.
В картине кутежа я использовал не только те детали, которые подсказал Катинов: и червонцы — белые лебеди, и романс «Расскажи, расскажи мне, бродяга…», но и прибавил несколько новых, позаимствовав их из пьесы Толстого «Живой труп», которую не так давно видел на сцене театра. Так сквозь пьяную дымку ресторана я рисовал падение комсомольца Величкина,
Фельетон получился злым. А зол я был на Величкина люто. И за то, что он, Величкин, не оправдал доверия горкома, а еще больше за то, что будучи комсомольцем, Величкин не побрезговал пить, сидя бок о бок с нэпманами.
К десяти утра фельетон был готов, и я, невыспавшийся, но счастливый, помчался в редакцию. Первой поздравила меня с успехом машинистка Люба. Потом улыбнулся Рябоконь и, вытащив из кармана одиннадцать копеек, послал наверх, в буфет, купить главному «Пушку».