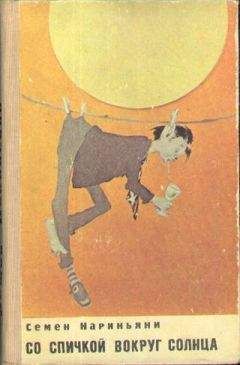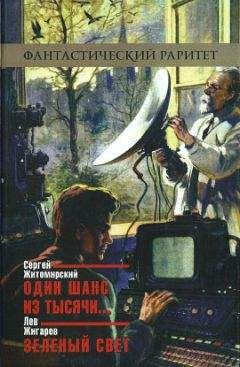— Клава ждет ребенка.
— Я заберу, воспитаю его.
— А может, лучше не ссорить молодых, отойти в сторонку?
— Ни за что! У меня планы. Надежды! Я всю жизнь в школе. Всю жизнь с детьми. К сожалению, с чужими.
— Почему не завели своих?
— Не хотела рожать. Жила с мужем. Думала, так вдвоем и будем жить всегда. Не получилось. Осталась я одна. А это и тяжело и страшно. Придешь домой, а там никого. Шкаф, стол, стулья, Ты устала, а тебя никто не напоит чаем, не пожалеет. И тебе самой тоже не о ком заботиться. Не с кем поделиться словом, лаской. Теперь буду умнее. Как только поженимся с Альбертом, обязательно рожу ребенка. Не смейтесь. Пусть мне пятьдесят, но если я смогу, то рожу, и двух и трех.
— Вас не смущает разница лет?
— Сначала смущала, а потом я подумала и успокоилась. Я люблю. В этом вся моя вина. Если она достойна осуждения, осуждайте. Пишите.
Евдокия Сергеевна не петляла, не юлила. Она говорила искренне, откровенно, и эта откровенность демобилизовала меня.
Вместо того чтобы возмутиться поведением Евдокии Сергеевны, я начинаю искать ему оправдание.
Неравный брак! Ну и что?
Прощаем же мы неравные браки мужчинам. Каким? Могу назвать десятки примеров. «Евдокия Сергеевна учительница», — говорите вы. Да, это усугубляет ее вину.
Но вспомните, то же самое сделал и композитор Серов, когда ему было уже чуть ли не за полста. Он, преподаватель консерватории, женился на своей, совсем еще юной, ученице. И от этого брака родился художник Валентин Серов, гордость русского искусства. Если мы простили неравный брак композитору Серову, почему нам не простить и Евдокию Сергеевну? Может, она родит еще одну гордость искусства.
Иду в редакцию, а сам рассуждаю и злюсь на себя одновременно.
Я хотел писать фельетон. Почему же теперь собираюсь изменить свое намерение? Неужели из-за внешнего облика Евдокии Сергеевны?
Клава! Вот что дает мне право осудить любовь Евдокии Сергеевны.
Клава должна стать матерью! И если Евдокия Сергеевна не жалеет Клаву, почему фельетонист должен жалеть Евдокию Сергеевну?
Когда дохожу до редакции, злость кипит и бурлит во мне вовсю. Фельетонисту остается, как говорил здесь Ник. Петров, только «сесть за стол и макнуть перо в чернильницу». Я сажусь и макаю. К утру фельетон готов. Он нравится всем.
Товарищам по отделу, секретарю редакции. Главный читает и говорит:
— Посылайте в набор. Поставим в завтрашний номер.
Фельетон простоял в полосе завтрашнего номера до семи вечера, а в семь меня вызывает главный:
— Только что звонил Иван Игнатьевич из горсовета. Он против того, чтобы мы печатали твой фельетон.
— А откуда Иван Игнатьевич знает, что в этом фельетоне?
— От заврайзагсом. Она сказала Сыскиной, та побежала за помощью к куратору.
— Вот чертова болтушка!
— Иван Игнатьевич утверждает, что ты дал неправильное освещение фактам. Женитьба сына на учительнице — трагедия для матери. Мать против.
— Наоборот. Мать сама организовала эту женитьбу,
— Ты знаешь, кто эта мать?
— Знаю. Маникюрша!
— Это, может быть, единственный пример на всю нашу область, когда беспартийную маникюршу выдвигают на пост директора культбыткомбината. И эта маникюрша не подвела горсовет. Она вывела отстающее предприятие в число передовых. Иван Игнатьевич характеризует Сыскину как женщину умную, деловую.
— Эта умная, деловая женщина способна на безнравственный поступок.
— Например?
— Мать хочет выйти замуж за пенсионера областного значения и, чтобы выжить сына из комнаты, женит его на пятидесятилетней учительнице.
— Обвинение серьезное. У тебя есть доказательство?
— Я разговаривал с Сыскиной. Она во всем призналась.
— Ты человек увлекающийся. Что-то домыслил! Что-то добавил.
— Раз вы не верите мне, порвите фельетон!
— Вот опять увлекся. Зачем рвать, мы отложим его до следующего номера. Я дам поручение Григорьеву пойти завтра к Сыскиной, и если она подтвердит твой разговор с ней, то фельетон тут же будет напечатан.
— Она не подтвердит.
— Почему?
— Вчера произошел счастливый случай. Я сумел вызвать Сыскину на откровенность. Нащупал какой-то подходящий нерв в ее хитрой и нечистой натуре.
— Раз ты нащупал нерв, его нащупает и Григорьев.
Григорьев пришел работать в отдел писем нашей редакции из следственного отдела гормилиции. Это был мужчина честный, но прямолинейный. Психология людей Григорьева не интересовала. Главным для него был конечный результат разговора. Да или нет! Сыскина, где ей было выгодно, заявляла «да», а где невыгодно — «нет». По ходу разговора она раза два всплакнула и раза три сказала: «Вы не спрашивайте, как я, вы спрашивайте, как производственная программа».
А так как производственная программа выполнялась на сто семь и пять десятых процента, то Григорьев сделал вывод: печатать фельетон про Сыскину В. Н. нельзя, так как она человек производству полезный и всей душой против неравного брака. Но что может сделать мать, если учительница околдовала, присушила к себе ее сына.
Главный выслушивает Григорьева и говорит мне:
— Все ясно, старик, Садись исправлять фельетон,
— Как?
— Прежде всего убери из-под огня мать-директрису.
— Почему?
— Потому что мать в этом деле сторона страдающая.
— Неверно! — закричал я. — В ней, в матери, все зло.
Главный перенес наш спор на заседание редколлегии, и я оказался в дурацком положении. Мать-директриса главный виновник, а я не могу доказать этого. Убежденность в своей правоте у меня есть, а документа, подтверждающего эту убежденность, нет. А раз фельетонист не может доказать свою правоту в редакции, как он будет оправдываться в суде, в горкоме?
И пришлось мне фельетон «Поди сюда» отправить в корзину.
* * *
— Вас подвело нетерпение, милый Виктор Викторов, — сказала фельетонистка с Дальнего Востока Вал. Одинцова. — Вместо того чтобы отправлять фельетон в корзину, нужно было подождать полгода. И вот когда Сыскины, мать и сын, сбросив маски, стали бы отбирать через суд комнату, вам взять бы и преподнести этим гадам со страниц газеты ваше «Поди сюда».
— Писать по следам судебных заседаний не люблю, — сказал Вик. Викторов. — Фельетонист должен бить в колокола, предупреждать о готовящемся преступлении, а не махать кулаками, когда вор пойман и меры приняты.
— Вот, вот, — сказал Мик. Иванченко, — у меня лично уже была дискуссия с секретарем обкома партии на тему, когда писать и печатать фельетоны: когда меры приняты или когда не приняты.
— Ну и к какому выводу вы с секретарем обкома пришли?
Тут к нам подошел директор кафе ЦДЖ и показал на часы.
— Кафе хочет спать. Что ж, давайте сделаем перерыв и мы, — сказал Микола Иванченко.
— До завтра!
— До завтра!..
А завтра, после дневных занятий в Мраморном зале, мы снова спустились в кафе, сдвинули для уюта свои столы вместе, и Мик. Иванченко начал рассказ так:
Поздно ночью меня поднял с постели телефонный звонок. Протираю глаза, поднимаю трубку. Волнуюсь: может, «барабанщик» (так у нас называют читчиков полос с барабана печатной машины) нашел какую-нибудь ошибку в материалах отдела?
Но звонок был не из редакции. Звонил бывший предколхоза «На руинах минулого» Примак, полгода назад назначенный директором областной сельскохозяйственной выставки.
— Прости, что разбудил, — сказал он и добавил: — Приезжай к нам.
— Когда?
— Сейчас.
Смотрю на часы. Стрелки показывают только четыре.
— У меня и машины нет.
— Я послал свою. Она, наверно, стоит уже у подъезда.
Смотрю в окно. Машина на месте. А ехать не хочется. А может, и не надо.
— Есть для тебя хороший материал.
— Пришли его завтра с курьером.
— Нет, ты сам должен побывать на месте. Кстати, не забудь захватить фотоаппарат.
Лезу под душ, смываю остатки сна. Одеваюсь. От меня до сельхозвыставки километров десять — двенадцать. На шоссе пусто, и мы через двадцать минут на месте. Примак приглашает к себе. Стол накрыт. На столе самовар, хлеб, масло, яички.
— Садись завтракать!
Сажусь. А сам смотрю на Примака. Улыбается.
— К нам приезжает зампредоблисполкома Баранцевич.
— Ну?
— Я хочу, чтобы ты написал про это.
— Только всего?
— Да.
Я в сердцах резко отодвинул стакан с чаем в сторону.
— Баранцевич приезжает к нам дважды в неделю. По вторникам и пятницам.
— Ну?
— И все к пяти утра.
— Ну?
— Ты не нукай, а подумай — зачем?
Я подумал и спросил: