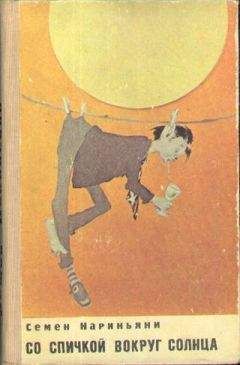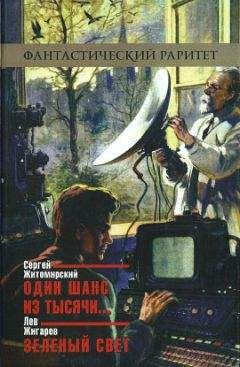— Мне сорок три, ей пятьдесят.
— Редкий случай в свадебной практике.
— Что делать, мой мальчик любит ее.
— Некоторые матери даже предпочитают, когда сын-мальчик женится не на сверстнице — юной, хорошенькой, но неопытной в делах кухонных и хозяйственных, а приводит в дом изрядно пожившую, видавшую виды, многоопытную женщину.
Мать-директриса побагровела. Нужна была еще капля, чтобы она взорвалась, И я подлил эту каплю.
— Кстати, вы уже уговорились с невесткой, кто кого будет называть у вас мамой? Вы ее или она вас?
У Веры Николаевны брызнули из глаз слезы.
— Вы думаете, мне не жалко его? Он ведь не подкидыш, а родной, единственный.
— Вы сказали, он любит ее.
— Я сказала это вам как представителю печати.
— А если говорить честно?
Вера Николаевна хотела взять себя в руки, смолчать, но не смогла и стала говорить не то, что хотела, то, что волновало, мучило ее:
— Вы спросили его: «Как ты ляжешь с ней спать после свадьбы?» Он мужик, как и все вы! Выпьет стакан водки и ляжет, с кем его положат. Я боюсь другого. Не как он ляжет, а как встанет, — протрезвев, утром после свадьбы, как посмотрит на себя, на меня, свою мать. Но что делать, у нас с ним нет другого выхода. Мы вдвоем живем в одной комнате. Евдокии Сергеевне вон сколько лет, а она идет ва-банк, чтобы вырвать у жизни свой кусок бабьего счастья. А ведь я моложе ее. Мне сам бог велел. Когда я в воскресный день отдохну, причешусь, оденусь по-модному, мне никто больше тридцати пяти не дает. Думаете, мне не хочется отведать и от своего куска бабьего счастья? А как? Сколько раз, бывало, понравлюсь я человеку. Начнет он ухаживать за мной. Жмет руку в театре. Целует в подъезде. А пригласить его в дом не могу. Был Альберт мальчишкой, я, бывало, куплю ему билет в кино на две серии кряду, и вечер хоть ворованный, а мой. А когда Альберт подрос да завел себе собственную симпатию, уже не я ему, а он мне стал покупать билет в кино на две серии кряду.
— А вы станьте в очередь на получение квартиры.
— Три раза подавала заявление. Не ставят. Иван Игнатьевич, тот, который подписал приказ о моем назначении директором культбыткомбината, своей рукой вписал меня в список первоочередников, а депутатская группа вычеркнула.
— Почему?
— У нас с Альбертом на двоих семнадцать метров. Это выше нормы. Сделать из одной комнаты две нельзя. Одно окно. Я перегородила комнату ширмой. Пригласила Сергея Петровича, зампреда, которого сняли с работы. Он тогда за мной ухаживал. Сергей Петрович пришел, поцеловал меня и оглянулся. А с той стороны ширмы сидит Альберт, готовит уроки. Сергей Петрович поморщился и сказал: «Нехорошо. Непедагогично». И с тех пор больше не приходил ко мне. А ведь любил. Хотел уйти от семьи, жениться. Я мучаюсь. А у Евдокии Сергеевны две комнаты.
— Вы верите, что ваш сын будет жить с Евдокией Сергеевной?
— Конечно нет. Я знаю, Альберт сбежит от нее через полгода.
— Знаете и идете на этот брак?
— Иду! Потому что разводиться Альберт будет с разделом жилплощади. Господи, помоги нам отобрать через суд одну комнату у учительницы.
— Вот даже как!
— Другого выхода нет, Мне сделал предложение пенсионер областного значения. Вдовец. Живет на площади зятя. Выйти замуж за пенсионера — значит взять его на свою жилплощадь. А Альберт разрешения на прописку не дает. У самого Альберта тоже загвоздка. У него есть невеста. Клава. И тоже без жилплощади. Он хочет и не может жениться на Клаве, потому что я не даю ему разрешения на прописку. Одна комната. Ну какая это будет жизнь с третьим лишним за ширмой.
— А невеста Клава согласна на брак Альберта с пятидесятилетней учительницей?
— Сначала никак! Но я уговорила. От брака с учительницей от Альберта не убудет, а комнату у нее мы обязательно отсудим. Это во-первых. А во-вторых, пока я по вечерам ходила в кино смотреть две серии кряду, молодежь не сидела в комнате без дела. Клава сейчас на третьем месяце беременности. Через полгода ей рожать, а куда она из родилки повезет ребенка? Поэтому Альберт и торопит загс зарегистрировать его брак с учительницей.
— Сегодня в загс, через полгода в суд.
— Я подала бы на развод еще раньше, но Альберт не хочет. Совестится. Евдокия Сергеевна ему два костюма дает. От мужа покойного остались. Семь рубашек, три пары ботинок. Одни совсем новые, коричневые.
— Приданое не маленькое. Его нужно отработать.
— Не отработать, отблагодарить, — поправляет меня смущенно директриса.
Я злюсь и иду на обострение.
— При чем тут благодарность! Давайте говорить прямо. Вы отдаете сына внаем к старухе за комнату и три пары башмаков.
— Ну и язык у вас, товарищ фоторепортер. И слово какое придумали. Внаем. Мне даже страшно. Назовите брак Альберта с учительницей увлеченьем, и все сразу станет выглядеть по-другому. Сегодня мальчик увлекся, женился, а через полгода увлеченье пройдет, учительнице ведь не восемнадцать, и он подаст на развод.
— А что, если завтра ваш замысел раскроется? Вы думали про это? Вашего сына выкинут из комсомола. Вас снимут с поста директора.
— Нищему пожар не страшен. Взял картуз да пошел.
— Куда пошел?
— В маникюрши. Начну снова делать городским модницам холю ногтей. Вы думаете, директор культбыткомбината получает большую зарплату? Гроши. На одних чаевых маникюрша каждый месяц может заработать в три раза больше.
— Вы станете брать чаевые?
— Разозлят, так стану.
— А сыну два выговора за это дали?
— Так уж положено. Директор должен давать выговоры. Маникюрша должна брать.
— Вы не только маникюрша. Вы мать. Вам не нужно подбивать сына на брак с учительницей.
— А жилплощадь?
Мне не хотелось больше говорить, оставаться в одной комнате с этой матерью. Я поднялся, поклонился и заспешил к той старой, расчувствовавшейся дуре. Предупредить о заговоре, какой готовят против нее мать и сын Сыскины.
Чтобы поговорить с Евдокией Сергеевной, мне пришлось ждать конца занятий. Раздается последний звонок, и в школьный садик выскакивает худенькая, стройненькая блондиночка. Да, этой не нужно было краситься в рыжий, причесываться «бабеттой» и «полубабеттой», чтобы казаться моложе и красивей.
— Это вы ждете меня? — спрашивает она и мило улыбается.
Я смотрю на стоящую рядом женщину и думаю не о той Евдокии Сергеевне, которая представлялась мне за глаза старой расчувствовавшейся дурой, а об этой.
Когда я учился в школе, я знавал девочек, которые влюблялись в учителей физики, математики и вплетали ради них в свои косички розовые и голубые бантики. Но я не встречал мальчиков, которые украшали бы себя бантиками в честь полюбившихся им учительниц. У мальчиков такое было почему-то не в чести.
Но если бы мальчики были такими же влюбчивыми, как девочки, то я допускаю, что и у Евдокии Сергеевны тоже могли бы быть тайные десяти- и двенадцатилетние воздыхатели, которые радовались бы каждой улыбке своей королевы.
Говоря словами Гоголя, это была не просто дама приятная, а дама приятная во всех отношениях. И хотя я немножечко ханжа, все равно, будь то дама приятная или малоприятная, но если у дамы сердце молодое, я не против того, чтобы она была чьей-то возлюбленной или даже собиралась за кого-то замуж. Лично я отдал бы этим дамам в мужья пенсионеров любых значений и рангов. Не только областного, но и республиканского и даже союзного. Но идти в загс с мальчишкой? А может, это неправда, наговор? И я, забыв, что передо мной дама, приятная во всех отношениях, задаю ей в лоб нескромный вопрос:
— Говорят, вы собираетесь замуж. Правда?
— Правда.
— За своего ученика?
— Бывшего. Сейчас он механик по ремонту телевизоров.
— Вы любите его?
— Очень!
— А он вас?
— И он любит меня.
— Не заблуждайтесь. Альберт женится не по любви.
— Откуда у вас такие сведения?
— Я говорил с его матерью.
— О, это нехорошая мать. Недобрая. Достаточно только Альберту день-два побыть рядом с ней, как он начинает глупеть и даже подлеть. Их нужно обязательно разлучить, и я это сделаю.
— Вы знаете, почему эта недобрая мать согласилась на брак своего сына с вами?
— Она хочет отсудить у меня комнату.
— И вас это не настораживает?
— Нет.
— У Альберта есть невеста.
— Клава. Знаю и про нее.
— А про то, что Клава в положении, вы знаете?
— Знаю и про это.
— На что же вы надеетесь?
— На себя. Клаве девятнадцать. Она мила, хороша. Но у этой милой девушки недостаток. У нее нет «поди сюда».
— Это еще что такое?
— Есть цветы осенние и летние. Около летних, пусть они и беднее одеждой, всегда вьются пчелы. А около осенних — пусто. Подлетит какой-нибудь мотылек, прельстившись красотой гортензии или хризантемы, покружится — и в сторону. Хризантемы — цветы красивые, но мертвые. Без теплоты, без запаха.