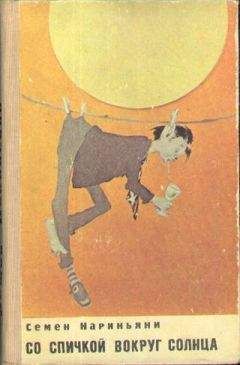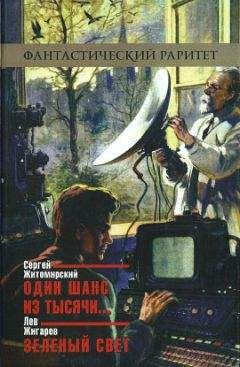— Ну?
— И все к пяти утра.
— Ну?
— Ты не нукай, а подумай — зачем?
Я подумал и спросил:
— Он что, руководит у вас семинаром?
— Вроде.
— А тема какая?
— Важная. «Каким должен быть руководитель».
Примак говорит и снова улыбается. Я злюсь, о семинаре в газете пишут работники отдела пропаганды, а не отдела фельетонов. Конечно, я тоже могу написать заметку строчек на двадцать — двадцать пять…
И вдруг в моей голове происходит какое-то переключение кнопок. Я перестаю злиться и начинаю думать о заметке в отдел пропаганды. А почему, собственно, заметка? Примак прав, материала тут может хватить на большой очерк. Новые формы пропагандистской работы. Зампредоблисполкома дважды в неделю руководит семинаром. И не в городе, в учрежденческой организации, которая под боком (только бы отбыть партпоручение), а на сельхозвыставке, куда за хорошим опытом съезжаются трудяги со всей области.
И вот я уже вытаскиваю блокнот, делаю заметки к будущему очерку: «Каким должен быть руководитель. Четыре утра. Душ придает бодрость. Трудяги со всей области».
— А где проходит семинар? — спрашиваю Примака,
— На пруду.
— У вас нет подходящего зала для занятий?
— В зале трудно провести показ.
— Какой?
— Наглядный.
— Понимаю. Вот зачем ты просил меня взять фотоаппарат.
Говорю и делаю новые записи в блокноте; «Семинар — на пруду. Показ диапозитивов на свежем воздухе».
— Загорелся? — спрашивает Примак,
— Очень.
— То ли еще будет.
По ту сторону окна сигналит машина.
— Пошли. Он.
Зампред Баранцевич жмет руку Примаку.
— Ну как?
— Порядок, Иван Егорович.
Примак говорит и вталкивает меня на заднее место. Сам садится рядом. Машина трогается. Баранцевич спрашивает:
— Ты с кем?
Я хочу представиться, сказать, кто я, а Примак наступает мне на ногу, подает знак «молчи» и отвечает сам:
— Сын Микола, Иван Егорович.
— Почему не знаю его?
— Он в Москве учится. Вот приехал на лето навестить отца с матерью.
— Это хорошо, что не забывает, — сказал Баранцевич и, не поворачивая головы, протянул мне назад ладонь: — Здравствуй.
— Здравствуйте.
— Папу уважаешь? Любишь?
— Люблю.
— А маму уважаешь? Любишь?
— Люблю.
— Молодец. Правильно. Ты потом ко мне подойди, поучу тебя. Важному. Нужному. У меня свои два студента в Москве учатся. Подойдешь?
— Подойду.
Примак поставил меня в идиотское положение. Назвал своим сыном, сделал студентом. Не разрешил сказать, кто я на самом деле! Почему? А Примак подмигивает, улыбается, точно хочет сказать: «А ты подумай и сам догадаешься почему».
Я думаю, и меня осеняет догадка.
А-а!.. Баранцевич скромный человек. Он не любит, когда печать поднимает шум вокруг его имени. И если он узнает, что я из газеты и собираюсь писать о нем очерк, как знать, может, он и не разрешит мне присутствовать на семинаре.
Вытаскиваю блокнот, чтобы сделать запись, а Примак сует блокнот назад в карман.
«Ай-ай-ай!» — говорят его глаза и косятся на Баранцевича.
И я глазами же отвечаю:
«Понимаю».
И, не вынимая рук из кармана, пишу для памяти в блокноте несколько фраз, обозначая слова только начальными буквами;
«В. В. С. Н. Д. Д. О. С. Л. Ж. К. О. П. Н. О. Н. А. О. Д.».
Что должно было обозначать:
«Внешний вид суров. Но душой добр. Очень скромен, Любит журналистов, когда они пишут не о нем, а о деле».
И еще:
«Л. М. Г. С. Н. П. О. П. М. З. С. П. С. А. Т. П. Л. В. М. Л. В.».
Это значило:
«Любит молодежь. Говорит с ней по-отечески. Принимает меня за сына Примака. Спрашивает. Абзац тире:
— Папу любишь? Маму любишь?»
Писать, не вынимая руки из кармана, трудно. Поэтому я стараюсь быть экономным. Обозначаю слова буквами. Этот способ записи придумал не я, пианист Гольденвейзер. Так он записывал свои разговоры с Толстым. При каждом удобном случае Гольденвейзер уходил в соседнюю комнату и расшифровывал запись. Если расшифровку затянуть, то половину записей потом не прочесть. Забывается.
Я применил опыт Гольденвейзера в своей работе. Вы знаете, когда фельетонист разговаривает с героем будущего фельетона просто так, все идет хорошо. Но достаточно только вытащить карандаш и бумагу, как ваш собеседник сразу делается косноязычным и начинает прощаться.
За два года работы в отделе фельетонов я натренировался писать маленьким карандашиком в маленьком блокноте, не вынимая руки из кармана. Собеседник даже не подозревает, что делает сотрудник газеты, сидя по ту сторону стола. Для маскировки моя левая рука поглаживает подбородок, а правая вносит в блокнот памятные заметы.
Я немного увлекся, рассказывая о технике фельетонной тайнописи, между тем облисполкомовская машина уже подъезжала к пруду. Здесь, собственно, был не один пруд, а несколько. Зеркальный карп разводился на выставке по новейшим рекомендациям науки. В одном пруду плавали мальки. В другом набирали вес годовички, в третьем — двухгодовички, в четвертом… В общем, рыбовод я никакой, поэтому точного назначения остальных прудов не знаю. Да это для моего рассказа и неважно.
Метрах в двадцати от нашей машины вижу женщину со стулом. Стул дубовый. Сиденье мягкое, обтянуто темно-синей кожей.
Шофер тормозит. Примак спрашивает:
— Куда пойдете сегодня?
— К пруду номер три, — говорит Баранцевич.
Выходим из машины. Примак говорит женщине со стулом:
— Тетя Катя, идите к пруду номер три.
Направляемся к пруду № 3 и мы. Баранцевич останавливается. Тетя Катя ставит около него стул и отходит в сторону.
Я, не вынимая руки из кармана, записываю:
«Т. К. С. В. Б. Г. Н. Р. С.». Что значит:
«Тетя Катя смотрит влюбленными благодарными глазами на руководителя семинара».
Руководитель постоял минуту, осмотрелся и сказал:
— Здесь от меня тень на воду падать будет. Э… э! Тетка, пошли дальше.
Тетя Катя отнесла стул метров на сорок правей. А я, не вынимая руки из кармана, записал:
«П. О. Г. В. Р. С. Ж.».
Что означало:
«По-отечески грубоват в разговоре с женщинами».
Новое место, по-видимому, устроило руководителя семинара, и он опустился на стул с темно-синим сиденьем.
Я оглядываюсь вокруг, ищу слушателей. В поле видимости никого. Между тем чувствую, что где-то поблизости притаились люди. Шарю глазами по кустам и деревьям. Вдруг слышу за спиной:
— Э… э! Малый!
Оборачиваюсь, Баранцевич манит меня пальцем. Иду, а сам думаю: «Герой моего будущего очерка человек уважаемый. И все же было бы куда приятней, если бы он предварял свое обращение к людям не обидным междометием «Э… э», а таким словом, как «пожалуйста!». И потом мне двадцать пять. Уж не такой я «малый»! Правда, я не высок ростом, щупловат, белобрыс, и с первого взгляда мне можно дать семнадцать и восемнадцать. Но и у семнадцатилетнего человека есть чувство достоинства, самолюбие».
И хотя выражение «Э… э! Малый!» меня обидело, я тем не менее, не вынимая руки из кармана, делаю очередные заметки к будущему очерку:
«Р. О. К. В. Л. П. О. Г. И. В. Р. С. М.»,
Что означало:
«Ровно относится ко всем людям. По-отечески груб и в разговоре с мужчинами».
Подхожу к Баранцевичу. Он дает мне пластмассовую крышку от мыльницы и говорит:
— Накопай червей. Да смотри, не дохлых. Пожирней.
— Червей?..
Тут к Баранцевичу подходит шофер Тиша. В одной руке у него пустое ведро, в другой — футляр от кларнета.
Новая загадка.
А руководитель семинара открывает футляр и вытаскивает на свет божий не кларнет, а три бамбуковых палки. Свинчивает, и у него в руках оказывается длинное гибкое удилище.
Поворачиваю голову к воде, а там тьма-тьмущая рыбы.
Так вот чем занимается дважды в неделю зампредоблисполкома Баранцевич! Удит рыбку в прудах областной сельхозвыставки. Вот для чего тетя Катя приносит из директорского кабинета к пруду дубовый стул с темно-синей кожаной обивкой.
Теперь я, чуть улыбаясь, подмигиваю Примаку.
— Спасибо за тему. Фельетон должен получиться славный.
Из-за такого фельетона автору не грех накопать червяков. Иду за наживкой и, не вынимая руки из кармана, пишу в блокнот:
«А. Д. П. И. Л. Ж. О. Р. М.».
Что должно было значить:
«Ай да Примак. И ловко же он разыграл меня».
Потом замедляю шаг и задаю себе вопрос!
«А о чем, собственно, будет фельетон?»
И, с минуту подумав, делаю в блокноте запись;
«К. Н. Д. Б. Р.»,
То есть:
«Каким не должен быть руководитель».
Тяпкой, которую дала мне тетя Катя, раскапываю глину, ищу червей, а в двух шагах от меня за деревом, притаившись, стоит человек.
— Вы кто?
— Тсс. Не шуми. Иван Егорович услышит, прогонит.