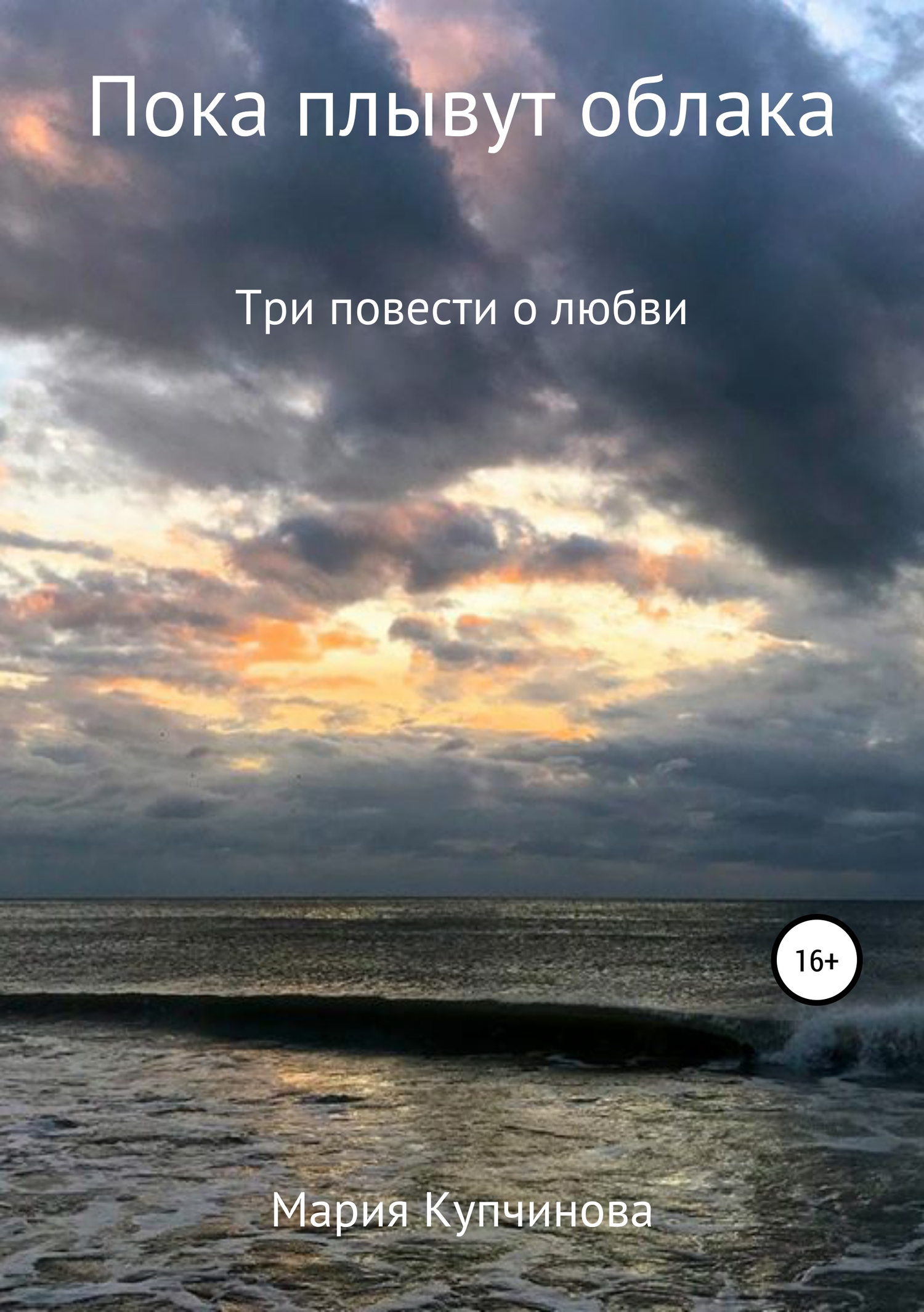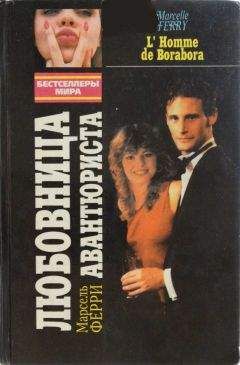в разговор Николай Петрович, – от наших женщин жизнь зависит. Котельная эта – единственный источник тепла в поселке – зимой потребляет 500 кг угля в час. Посчитайте, сколько за смену надо уголька лопатой забросить.
Оператор удивленно присвистнул:
– А автоматика как же?
– Это где-то там, в большой энергетике, а у нас лопата – и есть главная автоматика. Да еще раскаленный шлак надо слегка остудить, погрузить на тачку и выкатить в золоотвал. На прошлой неделе, читали небось, остались мы без электричества: прокачка воды через котел прекратилась, а уголь в слое продолжал гореть. Это ж не газ, где отсечной клапан сработал, и котел потушен. Так наши операторы в полной темноте выгребали горящий уголь себе под ноги. И спасли все котлы.
Повисла пауза.
– Расея, черт ее подери, что тут скажешь… – бормотнул осветитель, но замолчал под осуждающим взглядом Анны.
Пока съемочная группа допивала то ли чай, нагретый Гавриловной, то ли какую-то жидкость, подливаемую Николаем Петровичем из вытащенной из-за пазухи фляги и закусывала «ссобойками», выложенными на стол радушными хозяйками, Павел вышел из котельной, присел на лавочку у дверей. Думать не хотелось.
Белел выпавший за ночь снег, и почему-то на фоне этой белизны все остальное казалось несущественным…
– Можно с тобой посидеть?
Павел поднялся, встретившись взглядом с Анной. Нет, годы не обошли ее стороной. Вот и морщинки у глаз, и носогубные складки стали глубокими, расплылся когда-то узенький подбородок… Вдруг стало очень больно, что не на его глазах происходили эти изменения.
– Может, ты мне хоть сейчас скажешь, что у нас с тобой не получилось?
Павел не знал ответа на этот негромко заданный вопрос. Преодолевая собственную немоту, попытался подобрать слова:
– Ты была такой… яркой, а я рядом с тобой – удручающе бесцветным. Что я мог тебе дать?
Она перебила, не дослушав. Отвернувшись, произнесла, четко выговаривая каждое слово:
– Ты был единственным мужчиной, которого я любила.
И, легко ступая, пошла по дорожке, которую Павел утром расчистил от снега, к ожидавшему их автобусу.
Остолбенев, Павел какое-то время смотрел ей вслед, потом в два шага нагнал, преградив дорогу, встал перед ней:
– Но ведь это ты ушла. Почему?
На виске Анны билась тоненькая жилка, редкие снежинки, покружившись в воздухе, опускались на взлохмаченные волосы и не таяли.
– Дура была. Хотела, чтобы позвал, попросил, но ты же – молчун.
Она улыбнулась:
– Прощай, Пашка. Хорошо, что мы встретились.
Кроме Ани никто, никогда не называл его «Пашкой».
Павел не слышал, как, громко смеясь, вывалились во двор подогретые «чаем» Анины спутники, не слышал, как звала его Гавриловна. Почему-то казалось, что пространство перед ним – не обычный двор, а растянувшаяся до невозможности белая равнина, и снежные обочины дорожки, по которой уходила Аня, где-то там, в перспективе, сливаются с небом, образуя ступеньки, по которым поднимается ее легкая фигурка. Впервые за долгие последние годы пожалел, что нет фотоаппарата, физически почувствовав в руках его тяжесть и мысленно выстраивая кадр.
Через два месяца в местной газете Павел случайно натолкнулся на некролог: «С глубоким прискорбием извещаем… наша сотрудница… после тяжелой болезни…».
8
К семидесятилетию Павла в самом большом выставочном зале города открылась персональная выставка его работ.
За два часа до открытия, один в пустом зале, Павел вглядывался в фотографии, которые стали частью его жизни. Принарядившиеся Гавриловна с Валентиной сложили на коленях натруженные руки с въевшейся угольной пылью; по-прежнему стройная и неутомимая Полина с совершенно седой головой; счастливая Марийка в подвенечном наряде; мальчишки – сыновья, в легких волосенках которых запутались солнечные лучи; коза на сарае задрала бороденку к небу…
Звучал бархатный баритон Синатры: «Over and over I keep going over the world we knew». На фотографии желтыми огнями тянулась вдаль вереница уличных фонарей, мигали зеленые огоньки светофоров, автомобили уносились вперед, мерцая красными точками, словно сигналами азбуки Морзе. По вечернему городу уходила от кого-то женщина, унося свою тайну…
Только одну фотографию Павел не принес на выставку. Ту, на которой спала девушка, свернувшись в клубочек и подложив под щеку ладошки. Этим он не хотел делиться ни с кем.
Из жизни принцесс
Детство принцессы
Когда-то, много-много лет назад девочка хотела быть принцессой.
Нет, сказки обычно начинаются по-другому.
Давным-давно, не в царстве, но в некотором государстве жила-была принцесса. Жила она в обычной семье, как самая обыкновенная девочка: в государстве том родственные связи с монархами не приветствовались.
Что девочка – принцесса, знали только папа и море. Ну, и она сама, конечно: не было у них тайн друг от друга.
Мама с бабушкой и сестренка Лялька об аристократическом происхождении старшей дочери и сестры не догадывались, поручая ей то за водой сходить, то грядки на огороде прополоть, то нос младшей от соплей вытереть.
В длинные зимние вечера, когда ветер с моря так страшно гудел в печной трубе, пытаясь ворваться в дом, принцесса считала петли и училась вязать шерстяные носки, шарфики, шапочки. Она была здравомыслящей девочкой и полагала: умение что-то делать повредить Ее Высочеству никак не может. Тем более, что в маленьком частном домишке на берегу моря никакая пара рук не была лишней.
На берег теплого моря семья переехала, когда Ляльки еще и в помине не было, а родилась принцесса в местах, где всегда было холодно. Так говорил папа. Он же дал принцессе имя, взглянув на белокурые волосенки, белесые брови, светло-серые, почти прозрачные глаза и тоненький хрупкий профиль, словно из льда высеченный:
– Изо льда, так изо льда. Пусть будет Изольда.
Хоть Лялька, едва научившись говорить, сразу стала дразниться: «Изка – барбариска» (что поделаешь, детсадовское воспитание сказывалось), принцессе ее имя нравилась. И, что скрывать, она пыталась быть ледяной, особенно с мальчишками. Правда, с энтузиазмом участвуя во всех мальчишеских играх в войнушку, казаков-разбойников, догонялки, она забывала об этом, но стоило кому-нибудь начать приставать к ней с предложениями «дружить» или пытаться дергать за косы (знала принцесса, чем это заканчивается, папа рассказывал, что сам долго маму за косы дергал), как холод из глаз принцессы обдавал смельчака с ног до головы, превращая в ледяную статую.
Море, хоть и считалось теплым, (не Северное же!), но, как и сама принцесса, бывало разным. Даже летом случались дни, когда ветер уносил верхние, нагретые солнцем воды далеко в море, а с глубины поднималась настолько холодная вода, что папа, закоренелый купальщик, окунувшись, мгновенно выскакивал на берег. Именно такие дни Изольда любила больше всего. На пляже, словно на вертеле поворачивали мясо, коптились приезжие отдыхающие, но лезть в воду не рисковали, и море было только ее. Волны накрывали девчонку с головой, горьковато-соленая вода попадала в рот, а Изольда лишь отплевывалась и смеялась. Как подруги они болтали с морем, сплетничали о чем-то своем, совершенно девчачьем, и не могли никак остановиться. Море,