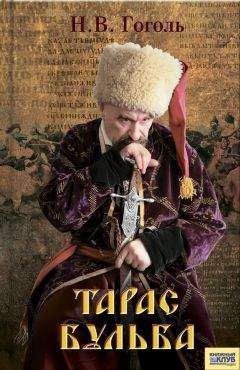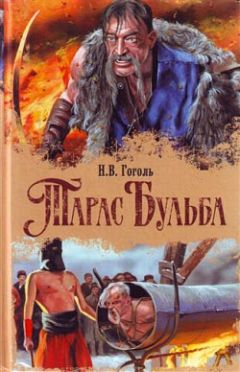Умирать — горе, умирать горько, а дальше уже не беда — за могилой дело не станет. Родителей Петрова Младшего хоронили в зимнюю грозу. В одном большом гробу, в который положили рядом — бок к боку. Когда опускали гроб, по небу прошлось раскатисто, будто «верховный» гневался, что не уберегли, и, как закончили, тут же присыпал могильный холмик снегом — прикрыл стыдобу…
Схоронили без Младшего — был в Кампучии, о смерти узнал лишь по возвращении.
Отец Петьки считал, что мягкая веревка на шее — все равно веревка. Сам Петька считал, что веревки нет вовсе.
Их поколение уже со всей страстью веровало в Великий социальный эксперимент, и вера эта была подхвачена народами России, потому как ей невозможно было противиться — она захлестывала. Пена есть всегда, но ее и воспринимали именно как пену, а не сливки. В пятидесятые–семидесятые формировалось уже третье и четвертое поколения. Они уже значительно отличались, но не видели себя вне центральной официальной государственной идеи — «от каждого по способностям», а в неком «светлом будущем» (которое воспринимали как идею, манящую и отступающую по мере к ней приближения) — «каждому по потребностям». Впрочем, потребности были небольшие, рвачество было не в моде. Когда–то новые идеи об Общине, имеющие за собой тысячелетнюю практику дохристианского периода (частью святые, частью юродивые) всегда находившие благодатную почву в России, а необыкновенными усилиями людей, в нее поверивших, ставшие «социалистическим реализмом» не только в местах имеющих опоры, традиционно и наиболее крепко державшимися в крестьянской среде, привыкшей все трудные работы делать сообща — Миром! — воспринимавшей совесть, русскую правду, едва ли не на генном уровне, но теперь уже и везде — на шестой части суши! Но вторая половина затянувшегося столетия двадцатого базовый корень государства основательно подрезала. Россия питалась теперь вовсе другими соками, словно дерево роняющее ствол, впилось в землю своими ветвями, пытаясь через них получить необходимое… Ветви росли куда их направляли, идеи притерлись, поблекли, стали на столько привычными, что их едва замечали — «сливки» все те же, а вот пена поменяла окраску, стала более завлекательной…
----
ВВОДНЫЕ (аналитический отдел):
«Правда», 25 мая 1945 года (по газетному отчету):
Тост Главнокомандующего И. В. Сталина 24 мая 1945 года, на приёме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии:
«Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост.
Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа, и прежде всего русского народа.
Я пью прежде всего за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.
У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело — Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой.
Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства, и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества — над фашизмом.
Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа!..
(конец вводных)
----
— Седой, вот ты человек всех нас старше, будь у тебя «машина времени», какой бы день хотел заново пережить?
— День Победы, — ни секунды не задумываясь отвечает Седой. — Взглянуть на него взрослыми глазами. Я тогда мальчонкой был…
Не спрашивают — почему. Понятно. Как не критикуют — не положено обсуждать достоинства и недостатки священных древних икон. Она есть — служит людям, а люди ей. Так и должно быть. Нация рождается, растет и крепнет на победах. Не было бы у нас Великой Победы, ее следовало бы выдумать — американцы так и поступили — но эта Победа у нас была. И были другие… Сложнее всего украсть последнюю, ту, что держится памятью в поколениях, чьи приметы еще можно встретить в собственной израненной земле, и всякий раз задаваться вопросами…
— Президент–то наш, на праздник опять охолокостился…
— Голову бы ему оторвать, да в руки дать поиграться!
— Не жалко?
— Жалко, — вдумчиво говорит Петька. — Очень жалко… а как подумаешь, так и хер с ним!
Петька человек ненормальный в своей веселости. И когда (по его собственному выражению) «до смертинки — три пердинки», и когда (бывали такие времена) погоны летели листопадом, а его самого начальство прятало от греха — чтобы не выкинул, не сморозил этакое, после чего всем идти на расформирование.
— Ему легче бздеть, чем нам нюхать! — подводит, как итожит, общую мысль о президенте…
Про Казака можно сказать — не «родился в рубашке», а — «вылупился в бронежилетике». Петька не прост, хотя понимает все просто. По нему каждый нож имеет душу. Но не раньше, пока убьет. До этого он мертвый нож. Каждый мужчина должен сделать настоящий нож и убить им своего врага. Если у мужчины нет врага, значит он не мужчина — значит, женское тело у него, и душа тоже женская.
Нож диктует технику. Лучше подобрать или изготовить под свою, чем подлаживаться под нож. Все индивидуально. Надо только решить: на что он тебе — на войну или быт? — всего две вариации. В войне, в бою, с ножом ли или без его, опять только две: быстро победить или медленно умирать.
К ножу применим только один принцип — принцип достаточности.
Что маленькому и худенькому?
Нож!
Что большому и неповоротливому?
Нож? Едва ли… Когда сойдутся один против другого, удел неповоротливого орудовать оглоблей, чтобы не подпустить в свое жизненное пространство маленьких и худеньких. Только оглоблей ему и сподручно — да собственные условия диктовать, чтобы маленькие тем же самым вооружались — не по средствам и не по возможностям. У большого — большое жизненное пространство, у маленького — маленькое. Всякий своим должен быть счастлив, и не пускать в него других. То самое и с государствами…
Писал же один мыслитель позапрошлого века: «Нож — оружие бедняка и одновременно предмет его повседневности. Богач пользуется столовым ножом, а приготовление пищи, ее добыча для него может быть только развлечением, единственным, где он берет в руки настоящий нож…»
В быту тоже просто. Либо нож у Тебя (что есть хорошо), либо у «Него» (что печально). Оно надо, чтобы печально? Очень редко в ножевом (это, пожалуй, один случай на тыщу) сходились «нож в нож». Чай, не Испания ста лет тому обратно, нет и не было на Руси такой традиции… На кулачках? Пожалуйста! Этому тыща лет и больше, без всяких английских сложно–глупых правил. С двумя простыми — упал? — лежи и не рыпайся, окровянился? — тоже отходи в сторону.
Но появилась и ножевые — пусть пока и не традиция, а случай, но с отдельными умельцами отчего ж не взяться случаям? Особенно если война, а с войны всякий пробует власть на зуб. И почему–то больше те, кто не воевал, но гонору и желаний отрофеиться — захлестывает. Ножевые поединки «нож в нож» — их тактику — продиктовал блатной мир. Размер и форму определила война. Блатники скопировали. Практика войны сказала, что форма нужна такая, чтобы легко входил. Размер: длина рукояти — толщина собственного кулака, плюс толщина пальца, лезвие — две толщины кулака, никак не больше. Это испанцы не могли остановиться и дорезвились до навах. Этакие складешки вроде сабель — размером подстать. Не иначе пошло с такой мужской пошлости, как меряться… ножами. У вас больше? Синьор, разрешите удалиться? Еще в Азии, да и Африке случалась встретить наглого неуверенного в себе аборигена с мачете в собственный рост.
В Америке кольт уровнял всех, в Испании — наваха. В России никого не равняли.
Не будь нож так необходим в хозяйстве, его давно бы запретили. Японцы, опасаясь корейских умельцев, под страхом смерти наложили запрет на ношение ножей на оккупированной ими территории. А единственный разрешенный на деревню подотчетный нож приковывали к столбу на цепь. Странная боязнь для самураев — профессионалов войн, носящих доспехи, увешенных мечами, опасаться крестьянина в набедренной повязке, пусть и с ножом в руке…