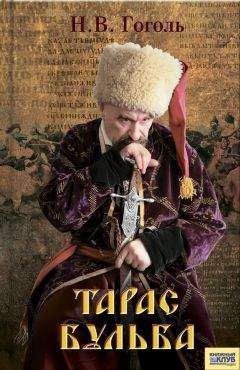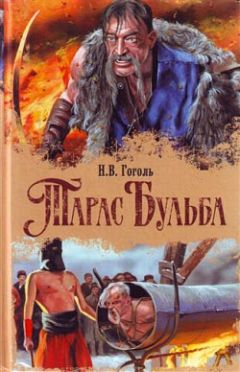В Афганскую еще ощущали за собой государство, его мощь, в Чеченскую уже только провал за собой, некую черную ненасытную пасть.
В «Первую — Чеченскую» обошлось без них — то унижение другие хлебали. «Паша — Мерседес» — тогдашний министр обороны, вошедший в силу после расстрела собственного первого Союзного Парламента, обещался все проблемы решить одной воздушно–десантной дивизией, и бросил на штурм части не имеющие (согласно штатному расписанию) ни тяжелого вооружения, ни специальной техники, не только не предназначавшиеся для взлома укрепрайонов и взятия городов, но и без предварительной подготовки, без разведки. Город Грозный в полной мере оправдал свое название. И здесь, кто бы и что про это не говорил, слова всплывали только матерные, и даже у Седого — человека к слову чувствительного и бережливого, только речь заходила о новогодней атаке, когда под звон бокалов в Кремле жгли мальчишек в танках, а…
Пурим, да и только, — говорили сведущие люди. И действительно, впервые в истории России, в самом ее сердце — Кремле, официально и беззастенчиво, показывая, кому на самом деле принадлежит здесь власть, что взята она теперь «всерьез и надолго», и ничто не способно ее поколебать, на дорогой мелованной бумаге («для своих») печатались приглашения, и проводились древние еврейские празднества. Празднества казавшиеся странными для всех народов, кроме еврейского.
Спустя десяток с лишним лет от их начала, Лешку — Замполита, уже как «знатока сопутствующих исторических вопросов», спрашивали:
— Леха, расскажи про Вавилон! Что там за Пурим такой произошел?
Зная, что Лешка — Замполит — лучший в подразделениях «сказочник», потому и прозвище ему — «Замполит», уж завернет так завернет, — у чертей колики начнутся!
— Енто пьеса! — всяк раз зачинает поэму Леха, и непременно с воодушевлением. — Шекспира на нее нет!..
Если на смех смехом не отвечаешь, то смех обижается и уходит. Смех от Лешки — Замполита большей частью черный, с него слезы как с перченого, но какой смех на этом свете правильный? И что есть смех? Не от того ли он приходит, что срывает покровы и являет нам правду столь измазанную, так замордованную, перекрученную, что узнавая ее, мы не можем не смеяться над собой — тому что стояли рядов, видели, но не узнавали. И кто здесь шут, а кто идиот? Шут делает себя сам, дураков — службы общественного форматирования.
— Едва ли не за 500 лет до рождения Христа, по окончанию ихнего «вавилонского пленения» — а все сроки давности, как мы знаем, рано или поздно выходят — евреям было дозволено вернуться в Иерусалим, на свою матушку–родину, то есть. Возможно, некоторые так и поступили, но большая часть «пленных» категорически не пожелала отказываться от собственного пленения — дела шли в гору: как обычно спекулировали, давали деньги «в рост». Уже вырисовывалась Египетская афера, когда «рабы», фактически выдоив–развалив государство, еще и назанимав у соседей «на пару дней» — «до получки», смылись со всем золотишком в «пустыню», где сорок лет ссорились между собой, приторговывали краденым и жили на «процентик». Потому–то тысячи вавилонских евреев, возмутившись свалившейся на них свободе, остались жить в городах персидской империи в прежнем положении, отнюдь не рабском, а напротив, зачастую привилегированном по отношению к титульной нации, что со временем стало удивлять и самих персов: «кто же кого завоевал»? Но это только прелюдия, а вот дальше самая пьеса! — интриговал Леха. — Можно сказать — Гомер! — коверкал он имя великого певца. — И вот в какой–то из дней, озадаченный персидский военачальник Аман заходит к царственному Ксерксу и делится всеми этими непонятками. Реакция Ксеркса естественная для того времени — истребить всех засидевшихся в плену! О чем тут же узнает одна из его баб, коих у него, как всякого царя, было такое множество, что даже имен не знал. Дальнейшая ситуация видится так: баба дала взятку, пробралась вне очереди в покои, устроила бурную ночь, показала новые штучки, которым знамо где выучилась, и когда затраханный Ксеркс решил прикорнуть, разревелась. Тот, чтобы заткнуть этот фонтан, по обычаю предложил подарок, Эсфирь, кою сами евреи после всех тех блядских дел стали называть царицей, в качестве подарка выпросила наказания для тех, кто преследует ее племя. Племен в Вавилонии — уту! — больше, чем у Ксеркса баб! Вечно ссорятся между собой. Одним больше, одним меньше… Должно быть, подмахнул бумагу или перстенек с пальца дал — подтверждение на то, что: «все сделано моим именем и по моему соизволению». Под это алиби, евреи, прихватив личную гвардию Ксеркса, той же ночью вырезали в собственных домах с десяток тысяч именитых персов. Впрочем, сами хвастаются будто бы зарезали 75 тысяч, но тут, думается, врут — пугают!.. То есть, как кого пугают? — удивлялся Леха. — А нас с вами! Или скорее наших чиновников. Мол, если что, и вас порежем сонных — все сегодняшние 750 тысяч. Впрочем, даже если и десять тысяч тогда прирезали, а не в семь раз больше, то по тем временам получается тоже, — ой–как крутенько! Это когда самые крупные города редко превышали сотню тысяч жителей… еще тот, скажем прямо, холокостик! Понятно, что Ксеркс, проснувшись уже вовсе в ином государстве, наудивлялся вволю. Но больше всего тому, какой он дурак — что, впрочем, счел нужным скрыть от ошарашенных подданных. Но члена в мешке истории не утаишь, особенно когда его слабости так упорно празднуют… Так–то!
— А вывод? Вывод давай!
— Вывод, как раз, из той истории не мы сделали, а еврейские идеологи. Всякой еврейской девочке с детства внушается, что она должна стать такой же героиней, как Эсфирь. Спасать своих через постель.
— Бля! И до сих пор празднуют? Спустя две тысячи лет?
— Две с половиной, — поправляет Леха. — И нас заставили! Между прочим, «Восьмое Марта» называется. Правда, мы его чуточки переиначили, другой смысл придать пытаемся, а вот у них все по–прежнему: на праздник выпекают ритуальные маковые пряники «Уши Амана» — детям предписывается угощать единоверцев. Людоедят, короче…
Удивлялись. Это какой злопамятной сволочью надо быть, чтобы в качестве праздника отмечать разрешение от власти вырезать сколько–то там тысяч «недоброжелателей» с семьями и забрать их добро? Гордиться, кайфовать от этого тысячелетия спустя? С чего? Не в бою, не славном сражении, а выторговали через постель разрешение на убийство; событие, которое любому в бесконечный стыд, а им как знак собственной доблести, и празднуют, называя «светлый праздник Пурим», воспитывают на нем собственных детей…
— Каждому народу — свой праздник Победы! И выбирает его он сам! — подводили собственную линию смысла…
В те же 90‑е, собственным своим существованием отрицая, что «воровство ремесло не хлебное», наведывавшийся на землю обетованную, попутно заскочив отметиться в Кнессете, то ли Борис Абрамович, то ли Абрам Моисеевич — будущий Председатель Всемирного Еврейского Конгресса, а может оба дуэтом, с нескрываемым восторгом отчитывались, что «сколько–то там еврейских семей (то ли шесть, то ли девять) владеют уже едва ли не половиной собственности России»… Спустя десять лет, получив вдвое, уже не отчитывались — привыкли.
Примерно в то же самое время, уже не в Тель — Авиве, не Лондоне, и не Москве, а другой своей центр–хате — Нью — Йорке, лидер Еврейского Лобби при Сенате США (организации не только официальной, но самой многочисленной и влиятельной) на очередном собственном слете с гордостью заявлял, что теперь уже «неважно какой собственно будет новый президент, от какой именно партии выбран — он однозначно будет проводить политику необходимую будущности народа Великого Израиля…» Может, и не дословно, но по общему смыслу именно так…
А в России хоронили останки гражданина Романова и его императорской семьи. Патриарх с рабочим псевдонимом — «Алексий номер Два», в миру носивший фамилию Редигер, и когда–то имевший папу (вовсе не Римского, а родного), того что в Талине служил оккупационной власти немцев, призывая паству к непротивлению злу (попутно доказывая, что не злу вовсе, а европейским «освободителям»), этот самый Редигер (уже сын), спешно выбранный закулисным обкомом в Патриархи, грея под рясой безналоговую декларацию (разрешение для «церкви» на беспошлинный завоз водочной продукции и сигарет из–за рубежа), призывал весь русский народ к покаянию за совершенный им грех — убийство царской семьи…
Заставь нацию, общество или даже религию каяться в действительных или мнимых грехах, после чего можно смело закапывать в ту могилу, которую они сами себе выроют.
— Одолели черти святое место! — в сердцах отмечал Михей, поминая этим не то «Ближние углы», где недавно нашел консервные банки и битую посуду, не то всю страну в целом, весь этот блядский период, когда отсутствие новостей могло считаться хорошей новостью. И думал о свойствах русской памяти — очень короткой на злое. Говорил вслух, ругал собственное племя: