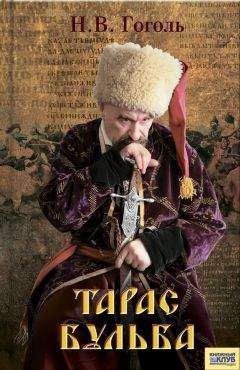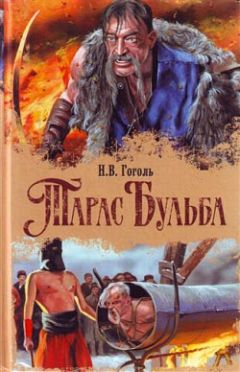— Почему?
— Потому что — воля!
Воля — слово серьезное, весомое. Полное значение понимают только те, кто осознал, что его пытаются воли лишить.
— Откуда тебе стало известно, что произойдет крушение поезда?
«От верблюда!» — хочется сказать Сереже, но благоразумно держит это при себе, потому что тут либо начнут допытываться, кто из его знакомых носит кличку «Верблюд», либо опять пойдут «не пряники», а всякий раз падать в обморок, не то, чтобы стыдно, а трудно. Организм не хочет подчиняться. И откуда знать, что крушение произойдет, если не знал этого едва ли до самого момента? Только этот дядька не верит, да и другие тоже…
— Мальчик с вами?
Женщина рассеянно оглянулась.
— Нет, я сам по себе! — громко и независимо произнес мальчик и снова уставился в окно.
— Как так? — растерялась проводника.
— Посадили и встретят, — заявил Сережа. — Вот билет, мое место нижнее, но я поменяюсь.
— Да уж! — сказала женщина.
— Что хотят делают! — пожаловалась проводница. — И не предупредили!
— Опаздывали! — пояснил Сережа. — Да мне не в первой, я часто в поезде катаюсь.
— Вижу! Присмотрите? — попросила проводница женщину.
— Отчего не присмотреть, присмотрю — хороший мальчик.
Проводница собирала билеты в складную коричневую сумку с множеством карманчиков, тут же подписывая поверх — куму на какой станции сходить, а в отдельный листок — сколько чая принести.
— Вам лечь надо! — сказал вдруг Сережа.
— Что? — переспросила женщина.
— Всем лечь надо! — упрямо сказал и насупился, словно прислушиваясь к чему–то.
— Почему?
— Я так чувствую!
— Странный мальчик, — сказал, молчавший до того старик. — И знаете, пожалуй, я прилягу — не возражаете? — спина что–то…
— Одеяла еще не разнесли, — растерянно сказала женщина. — И подушки без наволочек.
— А мы так — пиджачок поверх. Не желаете?
— Нельзя так, папа! Метрики помнете! — сказала женщина таким тоном, что Сережа тут же понял, что старик ей никакой ни папа, а какая–то другая родня. И то, что между ними давняя ссора, иначе зачем он к ней обращается на «вы» и даже старается держаться так, будто едва знакомы. Взрослые ругаться не умеют — поругавшись, они ссорятся надолго, и потом не знают как помириться.
— Всем надо лечь! — закричал Сережа.
— Странный мальчик.
— Сейчас!
И лег прямо в проходе, ногами по направлению движения, потому что, откуда–то знал, что нужно лечь на пол, и сейчас это желание стало непреодолимым. Проводница, возвращаясь с билетами, склонилась над ним…
Дальше не помнит, но пахло жженой пластмассой, рваным перетертым металлом, мазутом камней, и еще сладким — кровью, калом, душным теплом разорванных тел…
Есть совпадения странные. Едва ли не мистические. Лешка, которого много позже, в иной взрослой жизни, прозовут Замполитом, бегал смотреть то крушение. Такие же как он, просачивались сквозь оцепление из дружинников, уверяя, что живут — «во–он в том доме!», топтались у подъезда, из которого, если подняться наверх, должно быть все видно, выгонялись сердитыми дворничихами. Запомнил не кореженные вагоны двух столкнувшихся составов — пассажирского и товарника, а озабоченную серьезную молчаливость взрослых. Еще взлохмаченного старика без ботинок и мальчику возле него с кровью на лбу и взрослым пиджаком на плечах.
— Уйди! — сказал старик.
— Хорошо. Я уйду, — тут же согласился Сережа. — Я потом приду. У меня, кроме вас, нет никого — я из детдома.
Откуда–то зная, что когда найдет старика, тот будет ему рад, потому как перед тем будет его искать, а сейчас надо оставить его со своим горем…
Удивился бы Сергей — Извилина, узнав, что был в его роде такой Антон Кудеверский — знахарь, что родился в и поныне существующей, так и не сдавшейся, деревни Кудеверь? Что ушел он как–то вдоль реки заговаривать боль, править вывихнутое и не вернулся, остался там, где способности его признали, где понадобился. Беседовал с кем–то внутри себя, отыскивал утерянное и слыл ведуном, потому как иногда, на подступающую беду, мог заглядывать вперед и отводить… Сережа тоже слышал голоса, словно работало радио непрерывного вещания, но привык и не обращал внимания, тем более, что после многократных проверок убедился, голоса не отзывались и даже не реагировали на ситуацию — существовали сами по себе, и расслышать их более–менее отчетливо можно было только в состоянии покоя, едва ли не на грани сна, в остальное время это был просто шум разговора, из которого лишь изредка можно было выхватить отдельное слово, и по нему составить представление о теме беседы.
90‑е Сергей предчувствовал, но отвести не мог.
90‑е — тот период жизни, который старательно замалчивался, а любые рассуждения на тему — «могли бы встрять, сделать так и так» — пресекались прямо на корню, безжалостно. Словно опоганились. Действительно, могли ведь, помянув известное трехсилие: «бога, душу, мать», напрячься во все жилы, поступить круто, быстро, безжалостно, по «адресу», но не поступили, не предугадали, не решились…
Хоть как быстро бегай, — говорили древние, — но если вовремя не выбежал…
Не всякий честь умеет снесть, иные брызгают на стороны, позже смотрят, вроде не много и брызгали, а чаша чести и совести суха и в трещинах, будто враз устарилась. Как так случилось? Когда?
В Тюмени в огороженном вольере, «ходил на медведя» с рогатиной и кинжалом «безработный» Миша — Беспредел, которому за это обещали 10 тысяч долларов. Однако, при расчете обманули, взяли большую часть за какой–то новый налог на предпринимательскую деятельность, и Михаилу, чтобы набрать необходимую сумму (знакомому на хирургическую операцию), пришлось «завалить» еще двоих, один из которых был и не медведь вовсе. Впрочем, новый бизнес это не остановило, скоро про те бои прознали осетины — народ в новейшие времена хотя и безденежный, но ко всякого рода проверкам на смелость, как и прежде на сердце горячий, азартный. Расценки сбили, поскольку готовы были со своими дедовскими кинжалами идти на медведя из простого интереса… По совести сказать, тех и других поредело, но сохранило устойчивый интерес к этим тюменским боям–забавам среди быстро пресыщающихся новобизнесменов и прочей чиновничьей сволочи высокого ранга.
— С него не поймешь, когда бросится! — уже находясь в местах, где медведи принципиально передохли бы от жары, рассказывал об их общих повадках Миша — Беспредел. — Это же не тигра какая–нибудь! Если на задние встал и пошел на тебя — считай твой. А на четырех подкатывается и загребает сходу, придется попотеть, тут дедовским способом на рогатину не возьмешь, тут и нож побоку. Подмял тебя — считай, кранты! — задавит, изломает, порвет, только если сам изловчишься, и в нос его кулаком или, когда под ним уже, за яйца дернешь, тогда можно уйти низом, или сам отбросит и по новой начнет…
— За яйца — это да! — соглашается Леха. — За яйца — помогает качественно. Это Молчун умеет по–всякому спрашивать, а мы все по старинке — если блиц–допрос, то первым делом яйца крутить…
— Вернемся, глазунью закажу, — к чему–то роняет Миша. — Большую!
И разговор переключается на понятное, без всяких аллегорий. Кто–то делится, как ел вяленую медвежатину от медведя убитого «по–корейски» — это когда всякую животину убивают сутками, чтобы «наадреналинить» мясо, помянул «соус» из давленых муравьев — как раз «то самое» — лучше не придумаешь к мясу, что готовят в кипящем масле, и неплохо, раз уж опять здесь, кому–то тоже попробовать, еще черепах, печеных прямо в панцире… Нагоняет себе и другим слюны.
Едят молча, не время разговорами печень себе портить, когда в плане двухдневка без сна, и вовсе не мешает наесться впрок… Поступая так, как тысячи лет до них, не испытывая сомнений в смысле жизни, видя ее только в желании победы, любую цену воспринимая, как необходимое условие, как шлак, который отпадет сам собой…
В школе жизни всякое обучение принудительное, можно продлить его, сразу перескочив в ее университеты — однако, на подобное решаются немногие, большинство исключительно по принуждению и только малая часть добровольно. Те из них, которые выживают, становятся своеобразными людьми, с одним общим качеством — все они сторонятся известности.
И в джунглях можно вполне обустраиваться. Это городских пугают пиявки, да змеи. Тот, кто живет в здесь, воспринимает их, как некий существующий фон, необходимость, данность. И все. Как городской житель воспринимает опасность машин на улицах и электричество — старается обойти, избежать или использовать. Чаще использовать. Все автоматически, без эмоций. Притормози… Пропусти… Обогни… Используй! Последнее уже внимательно, но и оно отработано до автоматизма.