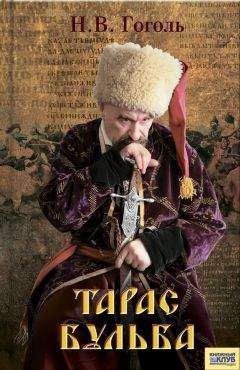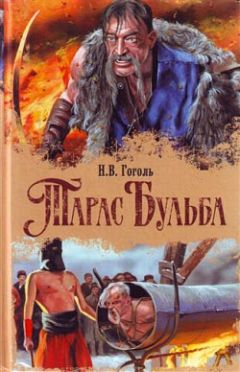Часто считают, что партизанская война в России отсчитывает свою историю от рубежа славного 1812 года. Это не так. Это как раз тот случай, когда кому–то выпало остаться в живых, да вернуться на запад, чтобы рассказать о том, что случилось с ним на востоке — наследить мемуарами. Сколько лет существует Россия, столь лет и ее иррегулярным войскам, которые собираются не по призыву, а по долгу.
Опять же Вязевские Кровинушки, мужики деревни Копнино, не все сплошь фамилией Копнинские, а и Лупины, Байковы и Алексеевы, так и не дождавшись повесток, которые в общей неразберихе отступления просто не успели выписать и разослать, почесав загривки, зарезали скот, наготовили солонину, погрузили бочки на телеги, запрягли и пошли искать собственный фронт. Погибли как один, но тому истории нет — чай не Фермопилы!
А вел ли кто–нибудь счет тем мальчишкам, что скрыли свой возраст, прибавили годков?
Когда снова? Неизвестно. Но знаем какими придут.
Только со стократным перевесом, многократным технологическим преимуществом, только с подельниками (коалицией), без объявления войны (если война не объявлена, то она войной не считается). Впрочем, объявлена — терроризму, а поскольку это понятие аморфное, может просачиваться везде, территориально ни за кем не закреплено, значит по всему миру (то бишь, странам, которым выпало несчастье иметь сырьевые ресурсы и недопонимать американский образ жизни).
При таком неравенстве невозможно ведение открытых боевых действий, хотя страна, которая осуществляет агрессию, их жаждет и требует, попутно обвиняя противника в смертном грехе нецивилизованности…
Гений — состояние проходящее, нуждающееся в постоянном обновлении, но больше всего в смысле собственного существования. Сергей нашел смысл в войне, которую, на взгляд всех трезвомыслящих людей, невозможно выиграть. Но кто сказал, что гений мыслит трезво? Истина пряма, но носить ее приходится кривыми дорогами.
Гению труднее всего оставаться человеком. Нет ничего сложнее, чем, заранее зная результат, играть за команду людей…
СЕРГЕЙ (60‑е)
— Я — гений! — объясняет Сережа скромно. — У меня и справка есть!
— Справка — это хорошо, справка нам понадобится! — отчего–то радовались в милиции.
Подавал, читали, передавая друг другу, лица вытягивались…
У Сережи в самом деле такая справка, тертая на сгибах. На бланке Детского дома N 2 города Калининграда, с круглой внушительной печатью того же дома, подписью директора, подписью завуча — которую тоже заверяет печать, уже треугольная. Сергей сам все заполнил, сам текст придумал, и подписал сам после того, как бланк своровал. Ему часто приходилось директору писать официальные письма для ГорОНО своим красивым недетским подчерком, был как бы вместо секретарши. Еще и на машинке выстукивал, но там терпение нужно. Там долго получалось. Буквы в машинке западают — стучать надо медленно одним пальцем, прожимать с силой и придерживать, директор иногда берется, а потом ругается, и велит звать Сергея с четвертой группы, чтобы писал под копирку.
Сергей пишет красиво, делает все обязательные допуски от краев, понятную шапку, умудряется вмещать текст так, чтобы не требовались переносы, а если на двух или больше листах, то лист заканчивает абзацем, и с нового начинает следующий, всем понятно — красиво составлено, правильно. Еще он чуточку, но не нахальничая, выправляет текст, который директор ему наговаривает, чтобы мысль была яснее, а когда директор, пряча глаза, просит его — тут бы надо «напудрить», то Сережа с удовольствием «пудрит мозги» — пишет так, что получалось как бы в разных смыслах. Вроде говорится то, а задуматься, так может быть и не то — зато потом, случись какая проверка, не придерешься. Получается, что «сигнал» из дирекции Детдома N 2 все–таки был, а это ГорОНО на него не среагировало…
Директор детского дома обладает своеобразным (в старое время сказали бы — бабьим) надтреснутым голосом, который никогда не повышает, зная, что от этого он будет выглядеть неприлично. От огромного тела, закованного в костюм на все пуговицы (не для того ли, чтобы скрыть его неприличную рыхлость?), можно видеть только голову без шеи и кисти рук. Иногда, переволновавшись, что случается редко, директор исходит тонким звуком, словно внутри, в горле, у него что–то замыкает, не дает выплеснуть возмущение вместе с воздухом. Никто не слышал, чтобы он матерился. Ни одного слова — есть ли воспитанники или нет. Воспитательницы, даже старые тоже держались — делали вид, что плохих слов не знают. Считалось, что по должности разрешено ругаться только тете Приме — поварихе, носившей такое прозвище за вечную пачку сигарет просвечивающуюся сквозь карман халата — предмет желания многих, и кочегару дяде Платону, но почему его так прозвали, и когда это случилось, не знает никто.
Директор прекрасно понимает, что пытаясь «рычать», никого в детском доме испугать не сможет. Потому не рычит, говорит вкрадчиво, компенсируя сказанные глупости строгостью лица, и тем, что никогда не улыбается.
— А ведь я предупреждал! — говорит директор на всякие неприятности, довольный тем, что на самом деле предупреждал, и теперь часть своей директорской вины может перебросить на учителей и собственное начальство.
Сережа часто работает с документами. Перекладывает личные дела воспитанников, сортирует их по группам и по возрасту, клеит бирки разного цвета — сам придумал — сразу понятно где что лежит.
Когда никого нет, пролистывает — у Сергея цепкая память — его награда и проклятие.
Некоторым вещам удивляется. Делает собственные выводы.
Когда не знаешь или сомневаешься, в графе национальность положено писать — «русский» — на будущее не ошибешься. И неважно на кого ты, ребятенок, похож, но жить тебе в России–матушке, а насколько она тебе матушка, составит твое собственное к ней поведение, ничто иное повлиять на это не способно. Так думалось. Империи наиболее тщательно сохраняют незыблемость сложившегося порядка вещей.
Во всех случаях, по факту отцовства, мораль такая: отцовство всегда можно установить. Это в нациях, где с моралью не все в порядке, этот факт устанавливают по матери — ей не отвертеться, жизнь застукала, та новая, что в ней.
В детдомах редко встретишь детей без родителей — таков парадокс, и Сережа, который в иное время числится бы подкидышем — дело в советское время невозможное, исключительное — чужими отцами очень интересуется. Вот дело одногруппника — смешного темного ухватистого мальчишки, ни на кого не похожего. Мама категорически настаивает, что папа — «где», но не в смысле «где» с вопросом, не в смысле — куда делся (про это ей доподлинно известно — вернулся в страну из которой прибыл студентить — некую страну Где), так в паспорте было написано с фотографией — зелененький такой… Не в смысле, что сам студент зеленый, хотя и такой черный, что — аж! — с синим отливом… в общем, папа — «где». Где! А «е» твердое. Там он сейчас, где и страна — Где, обещает вернуться, а сыночка прошу записать по его национальности. Так потребовала, так и записали, а когда от собственного сыночка своего отказывалась — дело по тем временам опять редкое и скандальное, переписывать не стали. Впрочем, времена были такие — нескандальные, всякий считался сором, который не следует выносить и разбрасывать. Позором на страну. А тут вдвойне позор: мать — не мать, может ли быть нечто еще позорнее? Когда от ребенка отказывается, для некоторых даже и не человек. Не те злостные годы, чтобы нищенствовать, государство всякого прокормит и устроит, — это только у капиталистов проклятых народ по мусорникам лазит, нам такого не грозит…
Как всякий талант, Сережа чуточку удивлялся и недопонимал, почему огромное количество посредственностей не разрешают ему шагать вольно и, даже более того, объединившись, держат против него стойкую оборону, столь странно реагируя на всякое доброе стремление? Почему не вправе закончить школу сразу за один год, почему не в праве потом уйти — посмотреть мир?
Не один такой надорвался в попытках вместить в собственной голове всю людскую мудрость.
— А мне всю и не надо, мне только ту, что делу поможет! — говорил позднее Сергей — Извилина, но даже себе не пытался объяснять — какому именно делу…
В милиции чешут затылки. В справке очень четко черным по белому указано — гений! С гениями они еще не сталкивались, как себя держать не знают, и чуточку скребет на душе — не облапошивают? Сергей эту внутреннюю мимику насквозь читает, потому сразу же предлагает:
— Книгу дайте!
— Какую книгу?
— Да любую вашу книгу.
Находят. Редко художественную, чаще какой–нибудь формуляр.
— Откройте, где хотите. Дайте посмотреть!
Глянет мельком — секунду–две, не больше.
— Теперь держите, проверяйте сверху вниз!