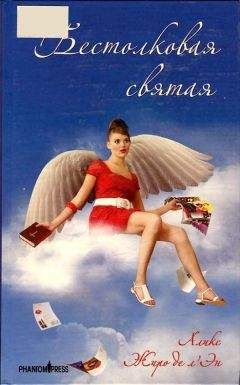– По ногам-то ровно цепом молотят, – пробормотала Феодосья, впрочем, без сердитости.
Улица была усыпана таким толстым слоем скорлупы от лещинного ореха, какового у многих московитов всегда полные карманы, что и мостовой не было видно. У жен и девиц орехи были уж надтреснуты. Богатым боярам скорлупы кололи слуги, демонстрируя окружающим (к их вящей зависти) заморские щипцы. Особо ретивые молодые детины эффектно дробили лещину зубами, дабы произвести впечатление на девок.
Пробравшись по особо толстой залежи скорлуп, Феодосья свернула вправо и оказалась на Никольской улице, о чем известила путницу табличка на столбе.
Сперва Феодосье пришлось опасливо пробираться вдоль нескольких кабаков, распространявших пьяную брань, вонь сцы из-за углов и ватаги кабацких ярыжек, задиравших прохожих или пристававших с просьбами дать копеечку. После оказалась она на небольшой площади между задами некоего монастыря, вся стена которого была улеплена ужасными клетями монастырских нищих, и двором поместья. Ворота поместья – не парадные, а людские – были распахнуты, и виднелись в них хлевы, кучи навоза, стаи кур, несмотря на морозец, деятельно бродивших по сору, и прорва народу, бранного, крикливого и уж частью хмельного. Наконец, и сие нелицеприятное место было преодолено, и Феодосья вышла на роскошную часть Никольской. Что тут были за каменные палаты! Под медными кровлями, с непривычными висячими комнатами-глядельнями, с дорогими новенькими иконами над крыльцами и воротами! Нарумяненные клюквой и свеклой девки будто невзначай прогуливались вдоль сих хоромин, поглядывая в ворота. Нищие самого ужасного вида, с одутловатыми, покрытыми коркой лицами, терпеливо высиживали возле ворот, надеясь на выезд хозяина и его щедроты. Впрочем, ворота стерегла многочисленная охрана. Караул, правда, состоял из болтовни, хохота, сплевывания и наблюдения за дерущимися собаками, но сами охранники производили острастку внешним видом – шлем на главе, секира в руках и кровожадные рожи.
Но Феодосью более всего привлекли не новомодные дворцы, а палата книгопечатного тиснения. Прочитав сию надпись, она с восторгом уставилась на удивительное здание с башнями, скульптурами единорога и всевидящего ока, с солнечными часами и открытыми в первом этаже книжными лавками. Так вот где изготовляют удивительную вещь – книги! И она, Феодосья, увидела сию палату собственными глазами! Долго еще находясь под впечатлением и не зря ничего по сторонам, Феодосья прошла сквозь торговую толпу к стене, огораживавшей Китай-город со стороны Москва-реки, и, пройдя ворота, вышла на берег. Там жизнь кипела, как в котле. На снежке были разложены бесконечными рядами туши говяда, баранины, свинины. Отдельно за дешевую цену торговались говяжьи, бараньи и свиные головы, столь любимые русичами в виде студня, а гостями из Азии – как праздничное блюдо, делившееся между всеми едоками на уши, глаза, ноздри и прочая, в зависимости от заслуг и выказываемого уважения. Далее торговали готовыми срубами изб, бань, поварней и чуланов всех размеров. А на самом берегу возле моста Феодосия увидала водопровод! (Не соврали ее тотемские попутчики, бая про Московские диковинки). Встав истуканом и расщеперив глаза, Феодосия уставилась на водоводное устройство. Было оно весьма не сложно. На мелководье, а в это время года – во льду, на долговязых сваях была поднята невысокая клеть без крыши. На вкопанных в землю двух стволах деревьев с развилкой укреплена пара журавлев с бадьями. От клети вниз, к стоящему поблизости строению, шел желоб из половины бревна, выдолбленного от сердцевины. Два детины, стоя в клети, без остановки опускали бадьи в полынью, поднимали журавлем наверх и выливали воду в желоб. Все строение было облито замерзшей водой, бороды серого и желто-зеленого льда свисали до земли. Да и сваи, казалось, были вторгнуты в валуны каменного льда. Более всего Феодосью удивила простота устройства водопровода. «Отчего в Тотьме никто не догадался сделать водоводы?» – подумала она. («Стереотип мышления», – ответил бы ей ученый отец Логгин).
Затем Феодосья вновь поднялась на гребень берега и вернулась в Китай-город.
Опять пробралась в толпе между лавками и подошла к воротам в Кремль, устроенным внутри высоченной башни.
– Что за высота! – поделилась Феодосья восхищением с бедно одетым старичком, который глядел на нее, опираясь на клюку.
– 29 сажень! – подняв указательный перст, гордо пояснил старичок. – Вижу, ты, милый юный монах, впервые в Москве?
– Ей! Только вчера прибыл. Сего дня первый раз вышел поглядеть.
(Феодосья и сама не знала, почто солгала, что прибыла только вчера).
– Сам Бог тебя ко мне привел, – с ласковой улыбкой промолвил старичок. – Сейчас тебе все про сии ворота расскажу.
– Правда? – обрадовалась Феодосья. – У тебя, дедушко, есть время? Аз тебя от дел не отвлекаю?
– Что ты! Какие в мои лета дела?
– А колико много тебе, дедушко, лет?
– Не знаю. Кто ж их считает, лета стариковские? Колико ни есть, все мои! Да что обо мне говорить? Ты послушай лучше про сии ворота, поразившие тебя своею высотой. Называются оне Спасские тщением царя нашего Алексея Михайловича. Он умом своим и благосердием увековечил в сих воротах Спас Нерукотворный. Ранее сии ворота назывались Флоровские, во-о-н по той церкви – зришь? – во имя Флора и Лавра. А в 1658 году, как теперь принято считать от рождества Христова, хотя мне по-стариковски и привычнее дата от сотворения мира, Царь наш Государь любимейший и светлейший Алексей Михайлович с торжеством встречал в сих воротах икону Спаса Нерукотворного, доставленную из Вятки. И тогда же Богом данный нам Государь указал: проходя через ворота, снимать шапки и кланяться, крестясь, сей иконе, независимо от чинов и звания. Он и сам, отринув спесь или чванство, кланяется сему Спасу. А ежели кто по небрежению, забывчивости или спешке не снимает шапку, то – видишь стражу стрелецкую?
– Вижу.
– Сии стражники останавливают ослушника и, отводя его в сторону с дороги, велят класть пятьдесят земных поклонов.
– И часто такое можно узреть?
– Не часто. Ибо в 1670 году Алексей Михайлович издал повторно для таких забываек еще указ, в коем запретил боярам и людям всех чинов вплоть до своих ближайших стольничих, стряпчих, сокольничих и иных въезжать в Спасские ворота верхом. Только своими ногами!
– И правильно! – согласилась с царем Феодосья. – Дай волю, так иные и в храм на кобыле верхом въедут. Надо уважение иметь!
Провожатый, опять удивленный тонким голосом монаха, снова бросил незаметный взгляд на лицо его и, смекнув, в чем дело, посочувствовал нелегкому кресту отрока быть чужим и среди мужей, и среди жен. «Вот бедолага-то несчастный. Сам мужик, а обличье бабье. Только в монахи и остается идти». После сих коротких мыслей старичок еще более усердно, дабы не выдать своим поведеньем, что несчастный монах создан уродом, и тем не добавить ему страданий, продолжил свой экскурсиус.