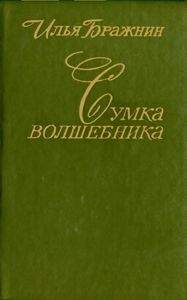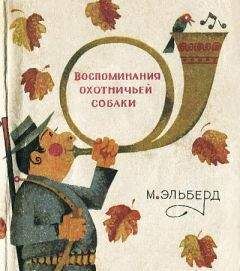– О! Симпатичное кафе, – он указал на бистро. – Я очень голоден. Мы можем там посидеть.
Он посмотрел с надеждой. Кажется, он боялся, что я отвечу:
– Нет, Майкл, кафе – это слишком просто. Сейчас пойдем на рынок за продуктами.
Что ж, надо дать ему отдохнуть, а то уморю англичанина, – решила я.
В бистро Майкл порозовел, вальяжность и самоуверенность вернулись к нему.
– Я интересовался русской историей. Сталин – тиран. Ленин – тиран, – он гневно сверкнул очками, – но я не понимаю, почему вы не уберете труп Ленина с Красной площади. У меня даже статья об этом есть. До революции Россия была великой и счастливой. Они поставили ее на колени.
Моего словарного запаса и воспитания не хватило, чтобы объяснить Майклу, что величие, как заряд, бывает положительным и отрицательным. Что злой гений, безумный гений, необходимо хранить в народной памяти так же, как созидательный. И пусть Ленин на Красной площади, в самом сердце страны, лежит и упрямо напоминает людям об их собственной дурости. Что, будь Россия счастливой и великой до революции, не было бы и самой революции. А англичанину советовать русским убрать Ленина так же бестактно, как советовать соседу развестись со вздорной женой. И я ответила:
– Это наша история. Это часть нашей истории. Пусть остается, как напоминание.
Майкл рассмеялся и игриво заметил, что его бывшая жена – тоже его история, но он не собирается ставить ей памятник в саду. Майкл доел борщ и вареники, выпил вина. Его самодовольный вид доводил меня до исступления. Я извинилась и вышла из-за стола. Подошла к кассе.
– Можно вас на минуточку, – сказала я женщине в народном костюме. На ее кокошнике было написано: «Добрый».
Она внимательно выслушала. У меня возникла проблема, но я готова оплатить некоторые хлопоты. Дело в том, что вон тот богатый англичанин вырос в строгой пуританской семье...
Глаза кассирши расширились.
...Да, так вот, с малолетства он привык мыть за собой посуду, у них чистоплотность в роду еще со времен Вильгельма Завоевателя. Он даже в самолете моет пластиковые стаканчики из-под вина. Он очень известен в Европе, и все привыкли к его чудачеству, а в Лондоне в его любимом кафе даже есть персональная мраморная мойка. Я говорила вполголоса, очень быстро и боялась расхохотаться при каждом слове, едва сдержалась. Кассирша, пунцовая от мыслей и чувств, не глядя, смахнула купюру с блюдца для мелочи и удалилась на кухню. Оттуда она заговорщически кивнула в знак согласия.
– Майкл, видишь ли, в этом бистро есть старая-старая традиция – мыть за собой посуду.
Позже Майкл уже не смел мне перечить и ничему не удивлялся, но тогда он возроптал:
– Да, но я видел людей, которые оставили посуду, – он указал на соседний столик, где грязная посуда громоздилась на подносах.
«Поди ж ты, наблюдательный», – подумала я про себя.
– Моют посуду только важные гости.
– Но я совсем не важный гость, – бормотал обескураженный Майкл, когда я подталкивала его в спину по направлению к кухне.
Это зрелище я не забуду никогда. Майкл, святая наивность, мыл посуду в гигантской пожелтевшей мойке, отливающей жирным блеском, как бок копченого леща. Он испуганно оборачивался и поправлял мокрыми руками очки на переносице. Большие, как айсберги, поварихи в затертых и засаленных халатах на увесистых грудях обступили его и наблюдали. Выражение ужаса и покорности не сходило с их лиц.
На улице я дала волю чувствам. Я хохотала несколько минут. Выглянуло солнце. С крыш капала вода. Майкл не удержался и засмеялся со мной.
– Мне весело, – объяснила я, – потому что погода хорошая.
– Мне весело, – сказал Майкл, – потому что весело тебе.
Тогда словно стена рухнула между нами. Я взяла его за руку:
– Пойдем, Майкл, я покажу тебе наш город. Он очень красивый. Можно, я буду называть тебя князь Мышкин? Ты похож на Мышкина.
– Кнас Мышкн, – повторил Майкл, – герой Достоевского. Я знаю. Он был очень добрый. Он был хороший? Да?
– Да, он был очень доверчивый.
Мы несколько часов бродили по Эрмитажу. Майкл знал и любил импрессионистов. Я всегда считала их работы неряшливой мазней. Майкл убеждал, что заставит меня разглядеть чистоту и свежесть их красок. Он возбужденно взмахивал руками у каждой картины и говорил о том, что он слышит ветер и чувствует зной, смотря на них. Он говорил так громко и проникновенно, что вокруг нас собралась толпа.
Из Эрмитажа мы двинулись к Исаакиевскому собору, затем по Мойке отправились к Театральной площади. В кассе Мариинского театра я купила билеты. Майкл обрадовался и без конца переспрашивал:
– Мы пойдем слушать оперу? Мы действительно пойдем сегодня? О! Как я люблю оперу.
На Большой Подьяческой я показала ему Петербург Достоевского. Унылый, грязно-желтый, с дворами-колодцами, в которых не видно солнца и неба. Майкл замер на мостовой, долго о чем-то думал. Под аркой возле лужи нахохлился голубь. Он выглядел удрученным и не шелохнулся, когда мы к нему подошли.
– Наверно, выгнали с работы, – сказала я.
– Да, – живо подхватил Майкл, – а после этого бросила его. Он оставил ей квартиру и машину и оказался на улице.
Мы громко рассмеялись. Голубь поднял голову и посмотрел на нас. Это был взгляд философа. Нам стало неловко, и мы ушли.
– Марина, – спросил Майкл, подавая мне руку, – у тебя есть бой-френд?
– Был.
– О! А сейчас нет?
– Нет, – отрезала я.
– Я только спросил, – оправдывался Майкл. – Фантастика! У такой красивой женщины нет бой-френда.
По Садовой вели медведя на веревке. Майкл оживился и присвистнул, совсем как мальчишка.
– Уау! А ты говорила, что медведи по улицам не ходят.
Ему надо было переодеться к театру, но я побоялась отпускать его одного. Таким несмышленым он мне казался. Я довела его до отеля, пообещав заехать через пару часов.
И в театре, и на следующий день мы пили вино и много смеялись. И от двух дней, проведенных с ним, у меня осталось ощущение праздника и света. Я слишком долго не смеялась. Я забыла, когда последний раз мне было так легко и весело.
В аэропорту Майкл протянул мне визитку:
– Марина, вы мне напишете? Здесь мой почтовый адрес и телефон. Я замечательно провел эти дни. Мне очень не хочется уезжать.
Я пообещала ему написать, а в следующий приезд отвезти в Новгород, по дороге остановиться в настоящей русской деревне, где мы будем пить самогон и курить «Приму».
– Да, я понимаю, Петербург – очень европейский город. Чуть-чуть Италия, чуть-чуть Париж, – задумчиво ответил Майкл. – Мне бы хотелось вас увидеть опять. У вас очень грустные глаза. Я думаю, вы несчастливы, Марина.
У меня навернулись слезы. Никогда не ожидаешь проницательности от простодушного человека. Я сказала: