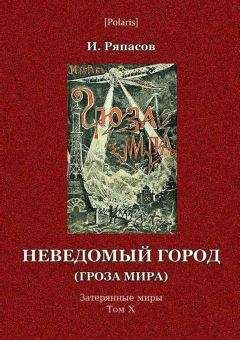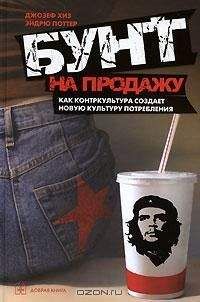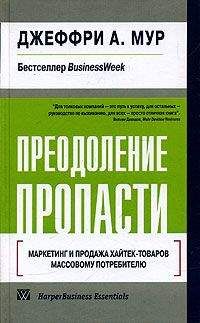Тут Элизабет сама не заметила, как ноги ее подогнулись в коленках и глаза, не закрываясь, совсем безучастно остановились на железом замке комода, она лишь чувствовала, как ветер из открытого окошка колышет легкую, белую занавеску, как та прогибается округлыми складками под неровным порывом. Точно так же внутри ее что-то прогибалось от такого же округлого, складчатого напряжения, и трепетало, и пыталось найти выход, но никакого выхода не было, кроме одного, оставшегося.
Потом она, наверное, задремала, но ненадолго, а потом снова лежала, хотя липкая сырость захватывала верхнюю часть ног, и пора было в душ, чтобы смыть ее теплой водой вместе с соленой потной пылью.
Там, в душе, она снова подумала, как низко он пал, как изничтожил себя. Она закрыла глаза под ласковыми струями теплой воды – это было совсем легко. Память тут же вернула недавнее: он, скорчившись на коленях, проводит ладонью по ботинку, а потом не знает, что делать с испачканными мокрыми пальцами, и так и не решается вытереть их о брюки. Почему-то именно от этой испачканной ладони ей стало особенно противно. Нет, она уже никогда не сможет относиться к нему, как прежде, так доверчиво, так «по-настоящему». Ей понравилось слово, и она стала повторять: «Я относилась к нему по-настоящему. А он оказался мелким, жалким, ничтожным. И все, что он мне рассказывал, все было неправдой. А я ведь относилась к нему по-настоящему».
Она упрямо повторяла одно и то же, стараясь не плакать, стараясь вычеркнуть, вывести его, как грязное пятно, из себя, из своей души, оттуда, куда она его так доверчиво впустила. Вычеркнуть! Надо вычеркнуть!
С тех пор она переменилась к нему: не заходила в комнату, которую он ремонтировал, не сидела, как прежде, вечерами на кухне, где мать продолжала пить с ним кофе. Элизабет даже не интересовалась, выходит ли фреска, даже ни разу не посмотрела на нее. Она и с ним старалась больше не встречаться, а когда случайно сталкивалась, уже не могла назвать его по имени, а кивала равнодушно, будто постороннему.
Дине же она заявила, что у нее много уроков, да и занятия в школьном театре отнимают время, и она больше не может, да и не хочет принимать участия во всем этом. Она так и сказала «во всем этом», специально не уточняя, даже развела руками для наглядности.
Мать как-то слишком быстро и слишком согласно кивнула.
«Неужели она все знает? – думала Элизабет. – Не может быть, чтобы он сам рассказал ей о своем унижении. А если рассказал, то значит, он не стыдится ее. А если не стыдится, то значит, они вдвоем переступили стыд…» Элизабет догадывалась, пусть смутно, что стыд можно переступить, только когда возникает близость. Какая именно близость, она догадывалась тоже. Так в ней и закралось подозрение.
Она не шпионила, не караулила, просто стала более чуткой, более внимательной. Например, вечером, прощаясь перед сном, по привычке целуя мать в щеку и лишь у самого выхода кивнув тому, другому, она недвижимо замирала сначала в холле, потом на лестнице и напрягала слух, пытаясь уловить хотя бы обрывки фраз. Но взрослые на кухне долго молчали, видимо ожидая, когда заскрипят ступеньки лестницы, и их взаимный сговор вызывал жгучую обиду, как будто ее снова предают, но на этот раз мать. Подозрение тут же усиливалось – ведь сговор возникает только у договорившихся, сблизившихся людей.
Однажды она все же не вытерпела. Проскрипев ступеньками лестницы наверх, нарочито хлопнув дверью спальни, Элизабет через несколько минут как можно тише приоткрыла дверь и выскользнула наружу, чтобы на носочках, медленно-медленно, едва ступая, спуститься вниз.
Она была уверена, что раскроет этот ужасный заговор, что застанет мать врасплох. Сначала, затаившись в холле, она будет долго подслушивать их разговор. А потом неожиданно появится в проеме двери, и как же будет забавно наблюдать за их изумленными лицами! Тогда мать наверняка поймет, как это подло – сговариваться против дочери. Особенно с посторонним, по сути, чужим человеком.
Но ее ждало разочарование – дверь на кухню была плотно закрыта, ни щелочки, ни обрывка звука. Очевидно было, что эти двое на кухне хотели отгородиться именно от нее. Элизабет снова стала подниматься по лестнице, уже не обращая внимания на скрип ступенек. Тут же подступили слезы, подкатились к глазам, предательство матери было так очевидно, что, обессиленно рухнув на кровать, перестав сдерживать себя, Элизабет разрыдалась.
Впрочем, прошло совсем немного времени, и все раскрылось.
В ту ночь Элизабет почему-то проснулась – то ли слишком ярко светила луна на безоблачном, почти беззвездном небе, то ли было душно и маленькое, хоть и поднятое до упора окно не давало ночной свежести проникнуть в застоявшийся комнатный воздух.
Элизабет пролежала несколько минут на кровати, глядя через поднятую фрамугу окна наружу, и почему-то ее охватило беспокойство. Беспокойство разрасталось, ночь давила безмолвностью, хотелось пить, тело подернулось легкой, влажной испариной. Элизабет даже не знала, который сейчас час, она поднялась с кровати, надела длинную, до колен майку на узкие плечи, стала спускаться вниз. Уже на лестнице ее удивила мертвая тишина ночного дома, он казался брошенным, необитаемым. Дверь на кухню была открыта, но кухня ничем не отличалась от остального дома – такая же темная, безжизненная, отчужденная.
Элизабет налила себе воды из крана, она была теплая, слишком пресная, но от нее стало немного лучше, не так пугающе одиноко. Потом Элизабет снова побрела к лестнице, снова поднялась на второй этаж, подошла к спальни матери, толкнула дверь, та поддалась легко, без напора. В комнате никого не было, все те же мрачные, кажущиеся из-за темноты слишком большими, тяжелыми, слишком расплывчатыми предметы мебели, словно кто-то накрыл их толстой, сглаживающей контуры материей.
Элизабет стало не по себе.
– Мама, – позвала она и снова: – Мама!
Никто не отзывался, стояла все та же глухая, ошарашивающая, подступающая к самым ступням, карабкающаяся по ним, по ногам, по телу к самому горлу пустота ночного дома. Гд е мама, куда она исчезла? А что, если с ней случилось что-нибудь? Ведь может случиться все что угодно!
Так же осторожно, словно боясь растревожить прислушивающуюся к шагам тишину, Элизабет снова спустилась по лестнице вниз, заглянула в гостиную, в столовую, подумала, а не спуститься ли в подвал, решила, что лучше не стоит. Вместо этого она подошла к входной двери, потянула – дверь оказалась не заперта. Тоже странно, обычно дверь всегда запиралась на ночь.
Уже на веранде ночь предстала перед Элизабет во всей красе. Полная, до неприличия большая луна раскрашивала желтым кусок неба. Цвет сгущался и менял оттенки, смешиваясь сначала с темно-синим, а потом с черным, начинал вязнуть в нем, создавая приглушенный отблеск, – она вообще была слишком обнаженная, эта луна, слишком выпуклая, будто бесстыдно предлагала себя. И оттого, наверное, лужайка перед домом выглядела таинственной и загадочной и приглашала на свои запутанные ночные дорожки.