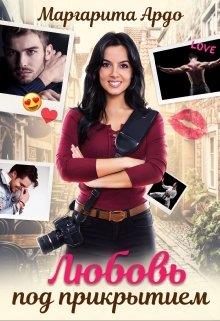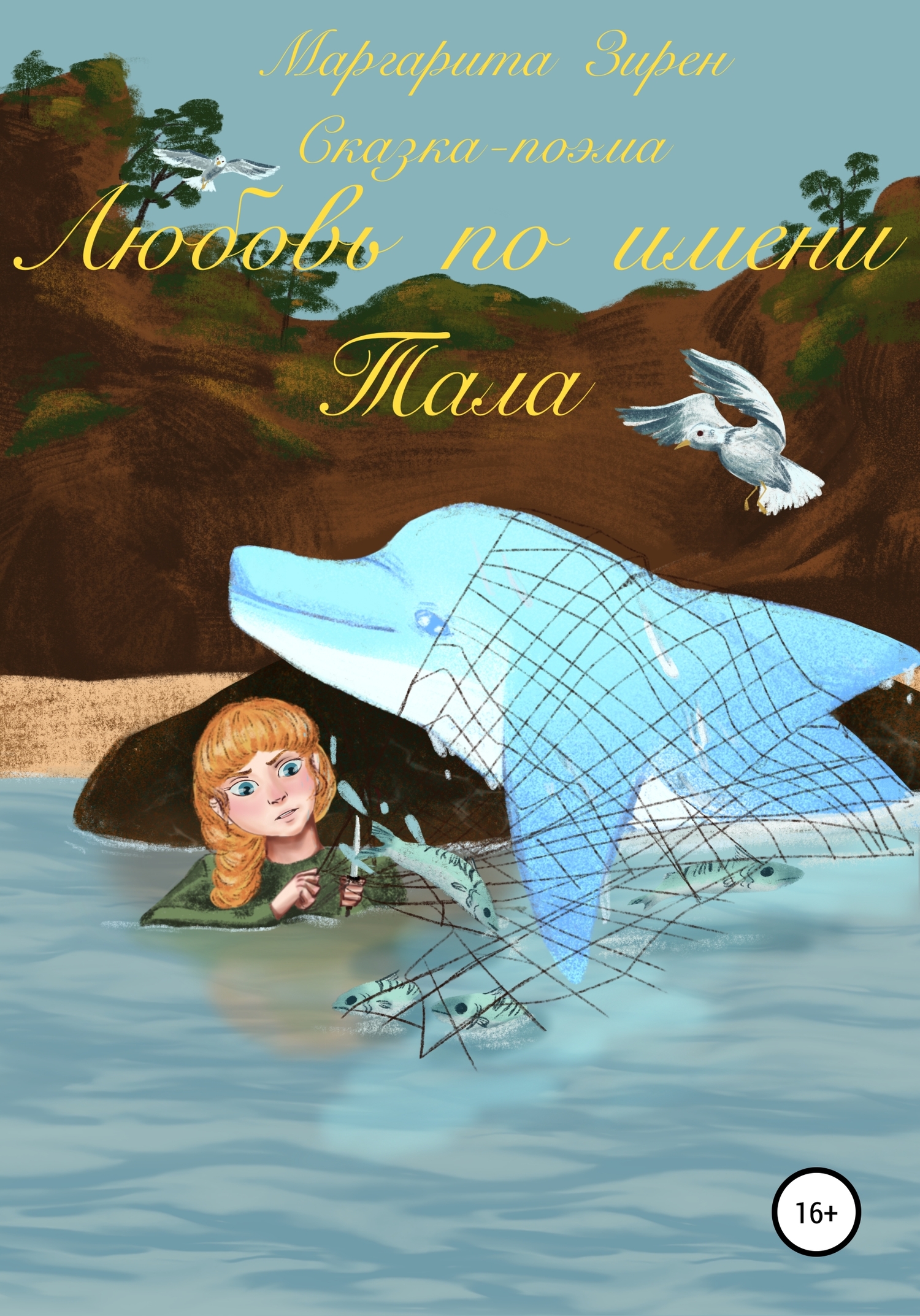невыносимо было ждать, когда останусь один. Я бы не смог открыть дневник при Кнопке. Одно его присутствие в её солнечной ауре было парадоксальным и неправильно болезненным, как лакированный гроб в центре детской вечеринки…
Врач, Тимур Степанович, с типичными армянскими чертами лица и сильными руками хирурга осмотрел меня, ознакомился с выпиской из дубайского госпиталя. Сказал, что всё в порядке, будем восстанавливаться. И я услышал в который раз, что я везунчик. Угу. Гомерический смех. Занавес.
Затем пришла миловидная медсестра Валя и спросила, нужен ли укол. Я отказался, хотя анальгетик уже начал отходить. Казалось, что если ноет в боку, в душе будет проще. Боль не позволяет забыть о себе, привязывает к телу даже самых отлётных. Боль заставляет помнить, что ты ещё на Земле. Она показывает тебе на твоё место.
Бесила слабость и липкий пот, дрожащие от потери крови руки. Я не привык быть беспомощным. Это извращение какое-то – лежать,и лежать, и лежать!
Наконец, организационные вопросы были решены, Кнопку, заглянувшую снова, увёл отец, она лишь успела сказать с подчёркнутой весёлостью:
– Раф, ты отдыхай, а я тут рядышком совсем, через три двери направо. Пойду осваиваться.
Мы остались с Сёминым. Перекинулись парой слов о том, как там выздоравливает Ваня Топорец. О наших похождениях. Я попросил его дать мне тетрадь и спровадил.
Сглотнул. Губы мгновенно пересохли. Итак…
«Дорогой Раф!
Ты никогда не прочитаешь этих писем, и это хорошо. Наверное, хорошо… Но сейчас я хочу, чтобы ты прочёл. Потому что я тебя ненавижу!!!!!! За всё, что ты сделал!!!!!»
Перелистнул страницу.
«Я ненавижу отца за то, что вечно говорил мне, что ты и только ты – самая выгодная партия и даже не дал мне шанса подумать о ком-то ещё. Да, он сказал, что разговаривать со мной не будет, когда узнал, что в Москве, после того, как мы с тобой поссорились, я начала встречаться с Петькой. Это было недолго, а потом Петька куда-то исчез. Может,тоже отец постарался? Не удивлюсь.
Отец зудел-зудел, вдалбливал мне тебя в голову, мечтая породниться с бизнесом твоего высокомерного папаши. И ведь породнился. Сейчас, когда думаю про это, меня даже тошнит. И от подарков, что мне шлют родители. Потому что кажется, будто презенты – только проценты с удачно сделанного вклада. Они заложили свою дочь в ломбард семьи Гарсия-Гомес. Вот эта шуба – комиссионные за мою «порядочную покорность». Порезать бы её на кусочки, но нет, не порежу – меня приучили ценить материальные средства. Ценю, плююсь, пью таблетки от злости,точнее от печени. И ношу с высоко поднятой головой. Пусть все завидуют. Да, мне все и завидуют…
Ненавижу мать! Она не поддержала меня, когда ты сделал это! Я позвонила, рыдая, а она просто сказала: «Никто из мужчин не безгрешен. Подумаешь, физиология, любит-то он тебя…»
Да уж, ты любишь! Любил бы, не делал бы мне так больно! Это просто отвратительно, ужасно, непереносимо видеть запись на камере, как ТЫ трахаешь эту тварь. Как с цепи оба сорвались. Ужас, какая грязь… Я ненавижу тебя!
Спасибо, Марьяна показала. Хотя я и сама почувствовала. Ты был совсем другим эти дни. Взбудораженным, о да! Попробовал секс с кем-то ещё! Поздравляю!»
Я отбросил тетрадь от себя. Жар поднялся из груди в голову. Таша знала! И не показала мне ничем!
Но ведь то, что было между мной и Викой, вообще ничего не значило. Да, снесло страстью голову, было в Вике что-то такое, сумасшедшее. Чего нe хватало мне в моей сдержанной леди Таше.
Она была особенно отчужденной в последний год. Ссылалась на головную боль, поджимала губы и обижалась по пустякам. Я не собирался изменять ей, но вышло. Полыхнуло и погасло, оставив неприятное послевкусие. Да, я чёртов испанец, хоть и со среднерусской примесью. Слишком много юга в крови, который я постоянно сдерживал. Как Таша. Как же мы с ней в этом похожи…
Я прекратил связь с Викой, перевёлся в Исфахан, чтобы Таша не узнала. Подальше от соблазна. Я хотел Викторию, но любил Ташу. У нас не было идеального секса, но было большее – общая история, общие шутки, общие стихи, места. Мы понимали друг друга с полуслова… Хотя нет, это она меня понимала, а я только… Что я?
В затылке защемило. Выходит, я пользовался ею? Но нет…
Я закрыл глаза, проглатывая горечь. Надо смотреть правде в глаза. Пользовался. Не понимал. Не видел. Не слышал. Она была несчастна, а я, как и её родители, покупал ей бриллианты.
Вспомнилось, как её номер в курортном Реште ограбили, что было неслыханно для Ирана, а я вместо украденных украшений купил сразу новые, ещё больше. Дороже. Мне казалось, что покупая дорогие вещи, я проявляю любовь. А Таша чувствовала, что покупают её…
Бок начало вновь сверлить болью, но я прикусил губу и потянулся за тетрадкой.
«...Хотелось отравить и тебя, и её,и себя. Просто не быть! Чтобы ты не прикасался ко мне, не говорил фальшивое «Малыш», не называл меня на американский манер «Ташей».
Это имя – пережиток прошлого – того времени, когда мы были еще в школе, и родители не знали о нас, не лезли и не было выгодного слияния и бизнес-планов наших отцов.
Таша – это та, кого ты любил. И целовал робко. И приносил цветы, сорванные с газонов, носил рюкзак и краснел, как бы невзначай касаясь меня рукой. Я помню, как мы с тобой смотрели у Аньки Спицыной фильм, не замечая сюжета, а просто лежали на диване и целовались, пока она убирала кухню после нашего сосисочного обеда, когда взорвалась банка с кетчупом.
Таша была в нашей поездке по обмену в США тем летом. Самой счастливой из всех в жизни. Таша – та, за кого ты подрался с тремя здоровенными неграми в кампусе, а она вытирала тебе кровь и от ужаса не могла вспомнить, как «скорая помощь» по-английски.
Таша умерла давно. Ещё в двадцать три года, когда узнала, что ты развлёкся с другой шлюхой, напившись с такими же дурными приятелями. Они тебя и подбили на это, уверена.
Таша в ужасе, умирая от боли, прибежала к маме,ища поддержки. Но она уже тогда мгновенно тебя оправдала: «Наталья, ты должна понять! Ты у Рафаэля первая, а вокруг парни треплются о богатом опыте. Как он мог удержаться и не попробовать? Измена – в мужской натуре. Ты должна радоваться, что он только раз гульнул и остановился»
Было бы чему радоваться. Унижению? Боли?!