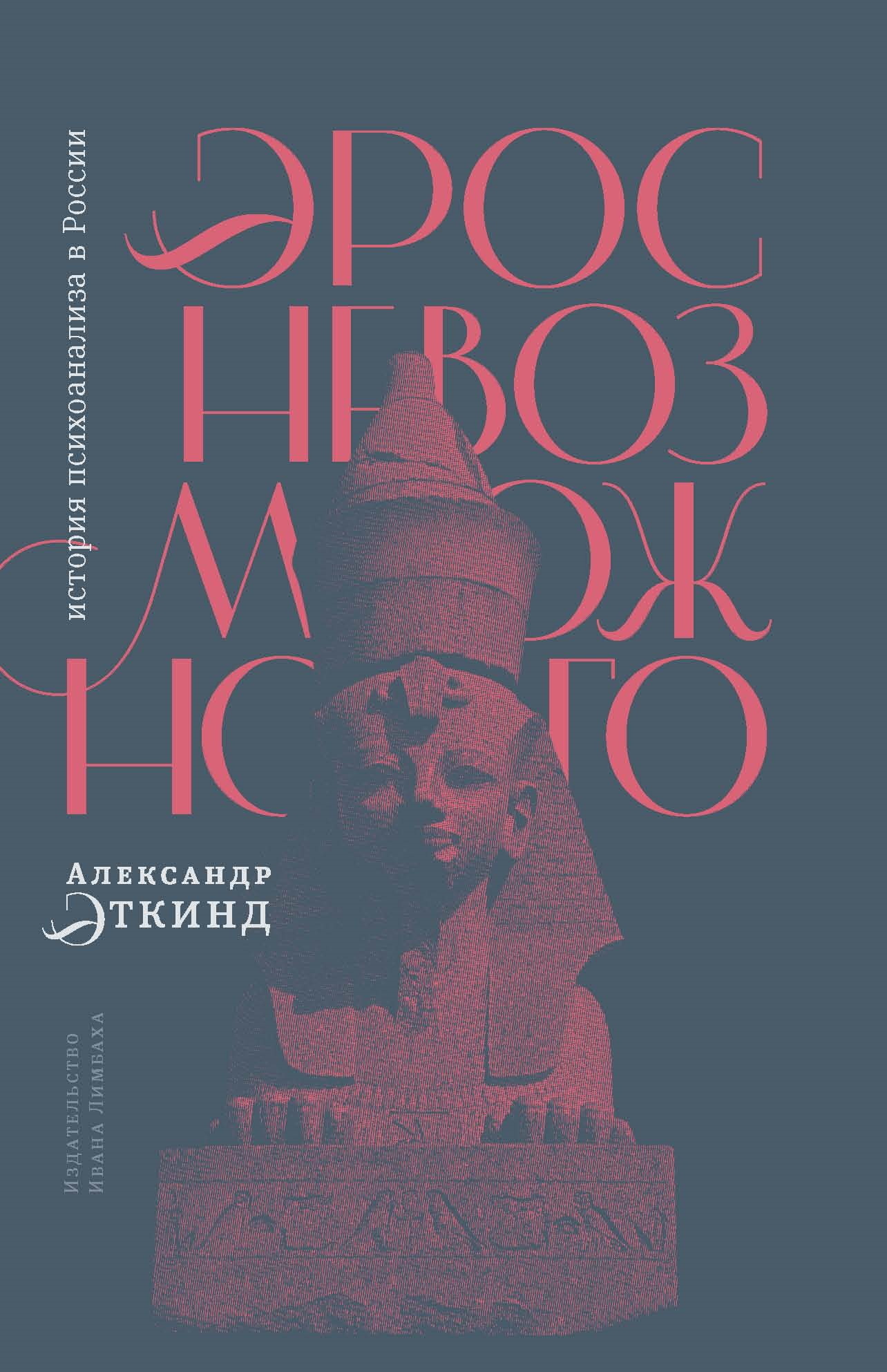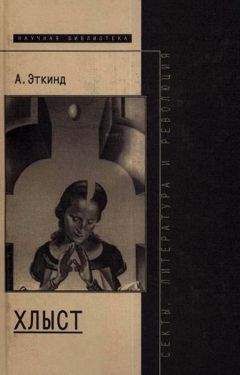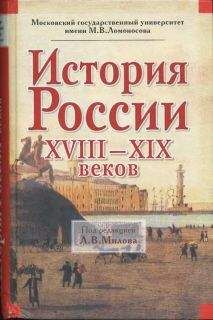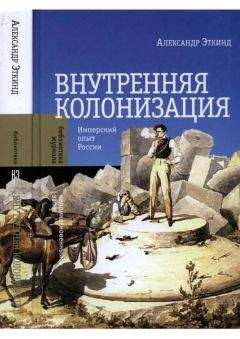мы натыкаемся на загадки в самых неожиданных местах. Но не стоит забывать случай Николая Бахтина, так и не создавшего в комфортной атмосфере Кембриджа ничего равноценного тому, что сумел сделать его брат в советской нищете и страхе. В соответствии с бахтинской логикой диалога ни на один из вопросов, которые встают здесь перед нами, мы так и не получаем окончательного ответа.
Если инициатива выпуска критической работы о психоанализе, написанной советским автором, принадлежала Шмидту или Ермакову, то кажется странным, что они обратились с таким предложением к Валентину Волошинову. В 1927 году тот только окончил филологический факультет Ленинградского университета и в том же году, как вспоминала его жена, стал убежденным марксистом. Но молот идеологической дискуссии набирал темп, и, вместо того чтобы сдержать его или хотя бы смягчить силу ударов, это издание ГИЗа сыграло совсем иную роль. Ее можно сравнить с ролью молотка кузнеца, обозначающего места для грубых ударов идеологических «подмастерий». Серьезные страницы, которые есть в этой книге, были забыты; зато множество раз, и в самой примитивной форме, впоследствии повторялась схема обвинений, сформулированных здесь в адрес психоанализа. Независимо от гипотетического авторства Бахтина, «Фрейдизм» остается единственной серьезной работой за полвека советского словоблудия по поводу психоанализа, начавшегося с конца двадцатых годов. Вполне естественно, что эта работа была источником и образцом для целого поколения людей, получавших деньги за «критику буржуазной философии».
«Фрейдизм» начинается с констатации растущего влияния психоанализа: «…всякий, желающий глубже понять духовное лицо современной Европы, не может пройти мимо психоанализа». По широте влияния, свидетельствует автор, с ним может конкурировать одна антропософия. Даже последователи Бергсона и Ницше в годы наибольшего их успеха не были так многочисленны, как сегодня фрейдисты. Основной идеологический мотив фрейдизма состоит в том, что судьба человека, все содержание его жизни и творчества «всецело определяется судьбами его полового влечения, и только ими одними». Этот мотив, неожиданно продолжает автор, очень стар. «Это – лейтмотив кризисов и упадка». «Боязнь истории, переоценка благ частной, личной жизни, примат в человеке биологического и сексуального» – таковы общие черты этих эпох, куда относятся и упадок Рима и греческих государств, и эпоха перед Великой французской революцией, и современное автору «разложение» Запада. Перечисление заканчивается, и остается не совсем понятно, как автор увязывает этот исторический анализ с констатацией популярности фрейдизма в своей стране.
В рассмотрение решительно вводится новая проблема, новый понятийный ряд: все «содержание психики сплошь идеологично», пишет автор «Фрейдизма»; даже смутная мысль и неопределенное желание – все это явления идеологические. Например, фрейдовская цензура: она «проявляет громадную идеологическую осведомленность и изощренность; она производит между переживаниями чисто логический, этический и эстетический отбор». И все другие психические механизмы, описанные Фрейдом, тоже не природны, а культурны и идеологичны. Между сознанием и бессознательным у Фрейда «кипит полемика, господствуют взаимное непризнание и непонимание, cтремление обмануть друг друга». Ничего этого не бывает между природными силами. Сознание отдельного человека есть идеология его поведения. «Никакую идеологию ни личную, ни классовую, нельзя принимать за чистую монету»: всякая идеология нуждается в интерпретации (там же).
Бахтин и Волошинов движутся здесь в русле того общего направления, которое они разделяли со Львом Выготским и Николаем Марром. Гуманитарно образованные теоретики, очутившись в послереволюционном академическом вакууме, опрокидывали в новые предметные области свой непосредственный опыт, надеясь понять психику, язык, искусство по аналогии со знакомыми реальностями советской жизни, политической и научной. К примеру, автор «Фрейдизма» определяет сознание как «комментарий, который всякий взрослый человек прилагает к каждому своему поступку». Основной запас аналогии эти люди, свидетели окончательной победы марксизма, находили в механизмах захватившей их советской жизни. Психика – это идеология; психические механизмы представляют собой пересаженные внутрь человека идеологические инструменты. Идеология бывает официальная и неофициальная, или житейская; любой советский человек знает разницу между ними. Фрейдовское бессознательное легче понять, если назвать его «неофициальным сознанием»; внутри человека оно занимает примерно то же положение существующей, но не признанной реальности, что неофициальные поэты, философы, художники (вспомним «Козлиную песнь»!) занимали внутри сталинского государства. Аналогия интересная и понятная, по-новому трактующая ключевую советскую проблему двоемыслия. Но либо не додумав, либо, наоборот, слишком хорошо продумав возможные ее следствия, автор выбирает очень жесткий путь ее разработки. «Мышление вне установки на возможное выражение… – не существует». «Переживание… существует только в знакомом материале». «Знакомым материалом психики по существу является слово – внутренняя речь». «Социальная среда дала человеку слова… социальная же среда перестает определять и контролировать словесные реакции на протяжении всей его жизни»; «…все словесное в поведении человека… принадлежит не ему, а его социальному окружению», – пишет автор «Марксизма и философии языка». Во «Фрейдизме» основная проблема анализа – отношения сознания и бессознательного – трактовалась все же более сложно, как «конфликты между внутреннею и внешнею речью и между различными пластами внутренней речи».
Приходится признать, что книга «Марксизм и философия языка» Валентина Волошинова предвосхищает вышедшую 20 лет спустя книгу «Марксизм и вопросы языкознания» Сталина с ее характерными рассуждениями: «Говорят, что мысли возникают в голове человека до того, как они будут высказаны в речи, возникают без языкового материала, без языковой оболочки, так сказать, в оголенном виде. Но это совершенно неверно. Какие бы мысли ни возникли в голове человека и когда бы они не возникли, они могут существовать лишь на базе языкового материала, на базе языковых терминов и фраз. Оголенных мыслей, свободных от языкового материала… – не существует». Эта идея последовательная и вполне тоталитарная. В человеке нет ничего такого, что нельзя было бы прочитать. Общество, идентифицируемое с властью, выступает программистом, полностью контролирующим ход вещей в своем компьютере. Подозрение, что в людях есть некая информация, которая не может быть прочитана и которая имеет какое-то значение, равнозначно сомнению во всемогуществе власти распоряжаться людьми. То, что человек скрывает от самого себя, он скрывает и от общества. Таким подозрениям нет места: все, что имеет значение, должно быть подконтрольно; контролируется то, что может быть прочитано; прочитано может быть то, что выражено в слове… И потому в советском человеке нет ничего, что не выражено в слове. «Оголенных мыслей не существует», не говоря уже о чувствах. Кроме слов, вообще ничего не существует. Для следователей потому так важен был факт признания, что иной, внесловесной, реальности для них не существовало.
Автор «Фрейдизма» тоже верит в то, что внеличностные факторы человеческой жизни важнее индивидуальных. Фрейдизм уступает марксизму ровно настолько, насколько полно человек контролируется обществом. Цель социального контроля – создать «здоровый коллектив» и «социально-здоровую личность». В таких коллективах и