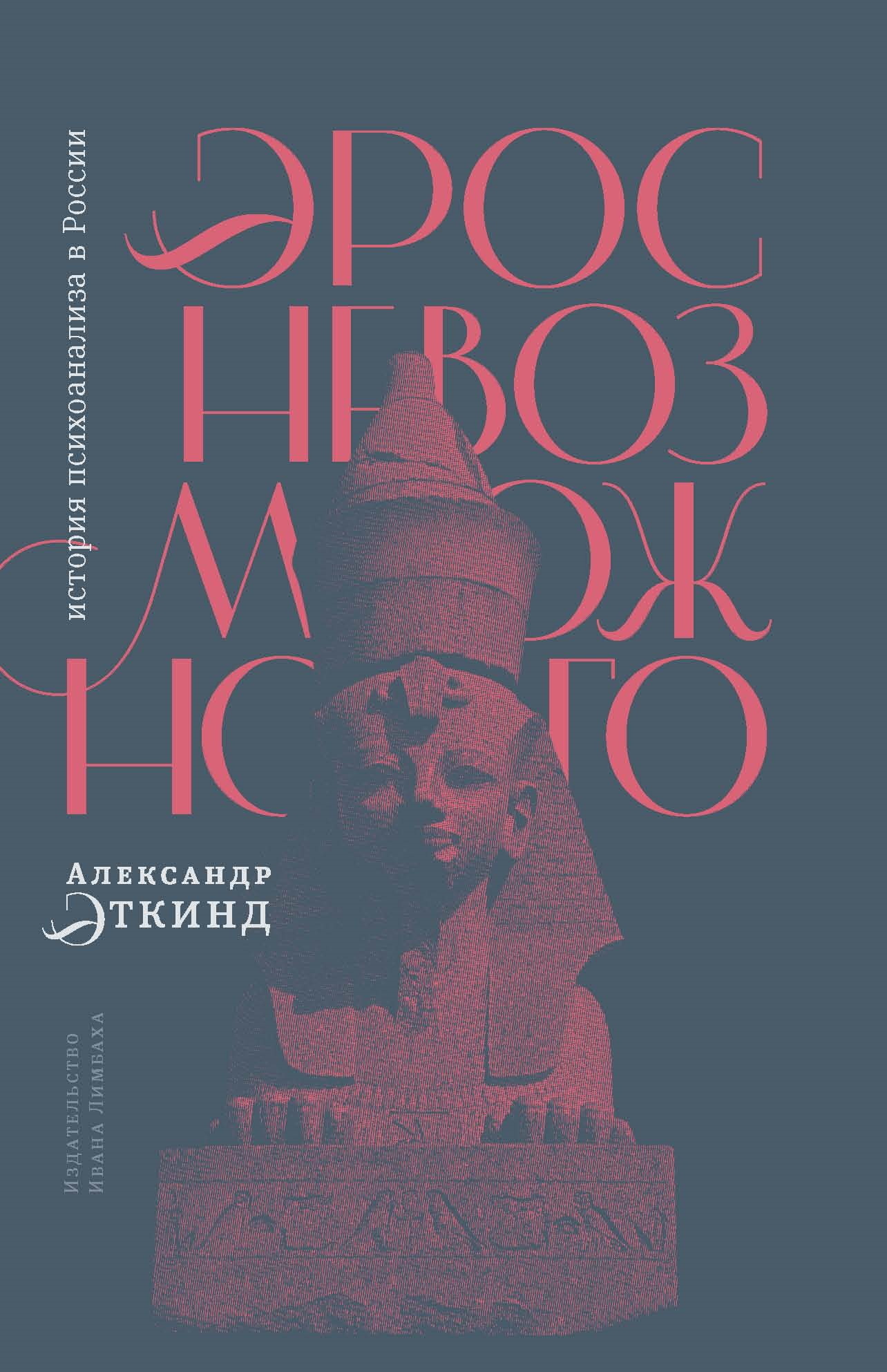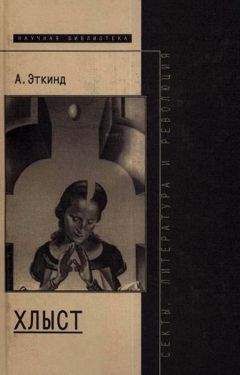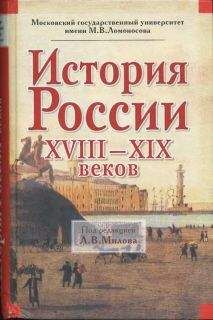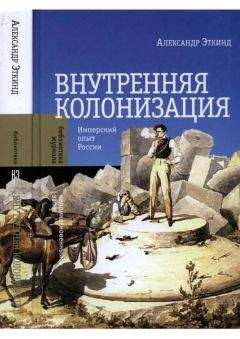таких людях нет различий между сознанием и бессознательным; в терминах авторов, «нет никакого расхождения между официальным и неофициальным сознанием»; то есть просто нет бессознательного. Если же пласты, соответствующие фрейдовскому бессознательному, оказываются далекими от «господствующей идеологии», а тем самым и от насквозь идеологизированного индивидуального сознания, это свидетельствует о деклассировании личности. Бессознательное – свидетельство разложения класса, к которому принадлежат его носители.
В общем, между социальным идеалом, очень ясно выраженным в этой книге, и идеями, столь же ясно изображенными в написанном несколько раньше романе Евгения Замятина «Мы», нет особой разницы. Замятин писал антиутопию; книга «Фрейдизм» содержит в себе начала вполне серьезной, добросовестной тоталитарной утопии. Тяжело представить себе, что ее писал один из героев «Козлиной песни», которая вся построена на противопоставлении деградирующей, но еще теплящейся частной жизни исчезающему обществу. «Не люблю я Петербурга, кончилась мечта моя», – безнадежно говорит в ней Ваганов.
«В любой момент развития диалога существуют огромные, неограниченные массы забытых смыслов», – будет говорить потом Бахтин. А в те годы он или один из его друзей перенес в психологию мрачный идеал государства, в котором не допускается никакого расхождения между официальной и житейской идеологией, потому что вторая должна быть пронизана и поглощена первой.
Бессознательное, каким его видел Фрейд, в принципе недоступно социальному контролю, если не считать таковым контролем сам психоанализ. Наличие в человеке непрозрачного ядра представляет собой противоядие для любой социальной утопии, да и для любого тоталитарного государства. Именно поэтому советская критика психоанализа после этой книги сосредоточивалась на доказательстве того, что бессознательного не существует. А если это так, то все важное в человеке может контролироваться его сознанием и, следовательно, обществом. И, следовательно, властью.
Неподражаемая ирония реальной жизни заключена в том, что даже имя автора этой книги осталось неизвестным – так тяжек был груз «официальной идеологии», так эффективно действовал механизм вытеснения любой реальности в бездонную глубину нашего исторического бессознательного.
И вместе с тем эта попытка преодоления психоанализа содержит в себе предсказание одного из основных направлений развития, которое получит психоанализ во второй половине XX века. В ряде положений своей критики Бахтин оказался парадоксально близок к концепции Жака Лакана, его семантической интерпретации психоанализа. В противоположность Бахтину, Лакан уверен как в существовании бессознательного, так и в праве другого на толкование его содержания. Но, подобно Бахтину, Лакан стремится представить бессознательное по аналогии с более понятной человеку реальностью. Для Лакана эта реальность – язык. Бессознательное структурировано как язык, формулирует он главную свою аксиому. Психоанализ имеет единственный инструмент: слово. А каждое слово рассчитано на ответ, даже если ответом этим является молчание.
Бахтин и Волошинов писали примерно то же. Вообще «слово – как бы „сценарий“ того ближайшего общения, в котором оно родилось», и в частности «все словесные высказывания пациента… являются такими сценариями прежде всего того ближайшего маленького социального события, в котором они родились, – психоаналитического сеанса». Фрейдовское «бессознательное», считают они, противостоит не сознанию пациента, а сознанию врача, как «сопротивление». Профессиональный подход Бахтина и его круга к слову, складывавшийся (в этом тоже можно усмотреть аналогию с путем Лакана) посредством усвоения и преодоления раннего русского структурализма (так называемой «формальной школы»), заключался в понимании целостного, адресованного от «я» к другому, словесного высказывания как минимальной коммуникативной единицы. Довольно близко подойдя здесь к семантическим формулировкам Лакана, Бахтин и Волошинов идут от них в другую сторону: их собственная социальная ситуация, «сценарием» которой тоже должно было стать их слово, была все же совершенно иной.
И психоанализ, и формализм, признающие неосознаваемую человеком законосообразность его чувств и дел, оба накладывали ограничения на саму возможность преобразования человека. От этих ограничений следовало избавиться. Нужна была новая теория сознания, если можно назвать теорией нечто, не признающее никаких законов; Бахтин дал тогда один из ее вариантов, теорию идеологии. Позже Алексей Леонтьев найдет другой вариант, который установится в советской психологии на десятилетия, – теорию деятельности.
Перефразируя Лакана, можно сказать, что для Бахтина и его круга сознание было структурировано как идеология. Представление сознания (и бессознательного) как идеологии отдавало их в распоряжение идеологического контроля. Поскольку «самосознание всегда словесно, всегда сводится к подысканию определенного словесного комплекса» – постольку «всякое осознание себя… есть подведение себя под какую-нибудь социальную норму, социальную оценку, есть, так сказать, обобществление себя и своего поступка». Опыт Лакана показывает, что из данной предпосылки вовсе не обязательно вытекает данное следствие; семантическая трактовка «я» совместима с индивидуализмом, она поднимает проблематику Другого и Большого другого (общества), но не обязана растворять в них индивидуальное эго.
Волошинов придавал обобществлению сознания более радикальный смысл, чем соотнесенность я и другого; «…осознавая себя, я пытаюсь взглянуть на себя глазами другого человека, другого представителя моей социальной группы, моего класса». Постепенность этого словесного перехода (другой-группа-класс) моделирует попытку плавно перейти от рассуждения, вполне приемлемого для цивилизованного европейского индивидуализма, к рассуждению в духе радикального марксизма. Сам же Бахтин шел с течением десятилетий в противоположную сторону.
Простое «идеологическое» решение проблемы отношения эго к Большому обществу – проблемы, к которой послефрейдовская мысль, и в частности Лакан, будет возвращаться бесконечно, – сегодня вряд ли актуально. Но свежо и содержательно выглядит анализ второй классической проблемы – отношений «я» и другого.
По Бахтину, «важнейшие акты, конституирующие самосознание, определяются отношением к другому сознанию», но в то же время механизмы самосознания и сознания другого принципиально различны. Сознание существует в двух формах – «я» и «другого», и переход от одной формы к иной влечет за собой резкие изменения его содержания. Открытие «другого» Бахтин приписывает Достоевскому: именно у него «раскрылась роль другого, в свете которого только и может строиться всякое слово о себе самом». Главный интерес самого Бахтина состоял в том, чтобы показать глубину трансформаций, которые претерпевает образ человека при переходе от внешней точки зрения к внутренней или наоборот, – трансформаций не столько структурных, сколько содержательных, психологических и даже идеологических. «Достоевский обладал исключительно зорким глазом и чутким ухом, чтобы увидеть и услышать эту напряженную борьбу „я“ и „другого“ в каждом внешнем выявлении человека (в каждом лице, жесте, слове)».
Если для Лакана прообразом универсального человеческого отношения «я – другой» является отношение аналитика и пациента, то для Бахтина таким прообразом, динамика которого ему более понятна, чем любые иные человеческие дела, является отношение автора литературного произведения и его героев. Автор (например, Достоевский) – я; герой (например, Раскольников) для автора – другой. Мир автора населен героями, и через них, хотя и не только через них, автор выражает