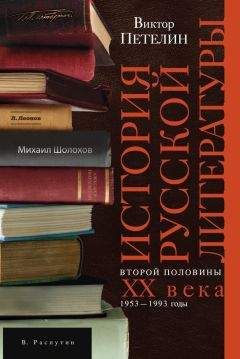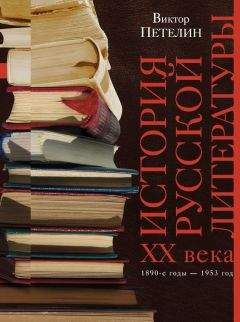Только один шаг отделял его от другого мира, где не будет привычного дома с вечными попреками и подзатыльниками, со скукой будней и ненавистной арифметикой Березанского; стоило сделать этот шаг на заманчивый борт теплохода – и перед ним открывалась жизнь, «полная самых радужных событий и приключений». Но ноги словно приросли к набережной, этого шага он не сделал. А когда понукаемый цыганёнком Михей решился прыгнуть на этот заманчивый борт, «мгновение страха» коснулось его души: нынешнюю прочность своего существования на земле со всеми её попреками и подзатыльниками он предпочёл загадочной неизвестности.
И это «мгновение страха» «оборвало внезапный порыв». И он с завистью, но в то же время с облегчением глядел вслед уплывающей у него из-под ног мечте, которой уже никогда в его жизни не суждено будет сбыться. Вся дорога, оставленная им на житейских перепутьях, была усыпана трупами людей, столкнувшихся с ним. Убивает он безжалостно, и всякий раз спасая самого себя. И после всего злого, что он совершил, он хочет прощения, он хочет тепла и уюта. Он, никогда не знавший жалости, требует к себе сочувствия и сострадания. Но нет у его детей ни жалости, ни сострадания к грешному отцу. С утра до вечера в своей каморке, невидимый для детей, он слушает о себе нелестные высказывания, «с утра до вечера душу грызут» ему, а за что – он не знает. Он осуждает своих детей за то, что они не могут его простить.
«Разве не зло – зло помнить? Да и кто ж его знает, где оно зло, а где добро… Всё на злобе стоит, всё на злобе замешено. Без неё расслабится человек, разомлеет, стечёт в землю». Михей уже не пытается скрыть свою обывательскую философию, он с ожесточением выплёскивает сокровенное своей души. Злобное, ненавистническое так и лезет из него. Он возненавидел своего сына Семёна за одно то, что тот внятно объясняет отцу предназначение человека на земле. Стоит отбросить ложную форму, в которую Семён облекает свои суждения, как перед нами возникнет глубокая философская мысль: в мир приходит человек независимо от своей воли и сознания, но устраивает свою жизнь сам человек, согласно своей совести. И горе тому человеку, который живёт только для себя. Тут обязательно человек творит зло. И сколько бы он ни уходил от расплаты, «зло всегда возвращается к тому, кто его содеял… в любом колене, но возвращается».
В данном случае зло, посеянное Михеем, вернулось к нему же. Нравственная чувствительность Семёна проявляется и в том, что он очень остро переживает возвращение отца «с грехом», в той его «житейской незащищённости», когда он «с мучительно сморщенным веснушчатым лбом – бледный, растерянный, робкий» не знал, что сказать матери, ждавшей от него «твёрдое спокойное слово» относительно судьбы Михея, и в том, что он способен был подняться над всем этим обывательским миром, воплощённым в Михее и его отпрысках, когда он со всей страстью и «былой мятежностью» коноплёвского характера, с его недовольством и стремлением подмять всё вокруг себя размышляет над добром и злом, кидая в лицо отцу жестокие упреки за то, что отец жил для себя, что все его поиски лучшей доли кончились тем, что он последнюю отнял: «И совесть вас гложет, вот вы и злобитесь. И чем больше терзаться будете, тем тяжелее будет. Это всё ваше к вам возвращается». Больнее нельзя ударить Михея, вернее, нельзя было предугадать его человеческую судьбу: «В отрешённом взгляде его беспощадно увиделась Михею собственная участь». В этом случае ни Божьим, ни человеческим законам нельзя осудить его. Только свой собственный суд, суд над самим собой может подвести земные итоги старшего Коноплёва.
«Живите, коли сможете» – вот нравственный приговор, вынесенный Семёном.
Особое место в философской концепции повести занимает Клавдия. В ней много доброго, светлого, много духовной силы, много мужества, сердечности, мягкости, обаяния, доброты. Уж кому, как не Клавдии, затаить злобу против Михея, принёсшего ей столько горя, страданий, мук. Но она готова простить его, твёрдо осознавая, что зло не искоренишь злом; он увидел в ней спокойствие, сдержанность, великодушие сильного человека.
Михей прожил жуткую жизнь. Всю жизнь в крике и на людях. Он больше не хочет такой жизни, он хочет «стиснуться, сжаться, затихнуть, как мышь в своей норе». «Пусть свет колгочет». Он своё отколготал. Он хочет мира и спокойствия. Но в мире человек опутан сложными путами. Он не может быть одиноким, даже если и стремится к одиночеству, обрубая все связи с внешним миром. В мире нет одиночества. Человек не может спрятаться, затихнуть… Нашкодил, а теперь хочет спрятаться, затаиться, не хочет ответ держать за свою жизнь. Клавдия не может видеть в Михее этой слабости, граничащей с трусостью. Любишь кататься – люби и саночки возить. Она хотела бы увидеть его сильным, мужественным, способным признать свои заблуждения, свои грехи и этими признаниями искупить свою вину перед детьми, душевно очиститься перед самим собой и перед миром, чтобы потом обновлённым продолжать жизнь. Занимать легче, чем отдавать, особенно если это касается нравственного долга. Он просит жалости к себе, ещё не ушла жестокость из него, но он повержен, просит пощады. Этого мало. Клавдия стремится пробудить давно заснувшую в нём совесть. Ведь жить без совести нельзя.
В словах Клавдии – философский смысл повести: «Не сжечь тебе душу, а отогреть хочу, до донышка отогреть. И в них – тоже. Коли мы семьёй не уживемся, тогда как же нам с чужими людьми в миру жить? Озлобиться легче, чем сократить себя перед другими, только теплее со зла никому не станет. Они на тебя ярятся, ты – на них, а кому выгода? Тешим нечистого, и больше ничего. Вот и я хочу, чтоб ожили вы от холода». Не только в Михее, но и в детях она хочет отогреть душу, очистить от всего, как ей кажется, наносного, чужого, привитого неправдой прежнего бытия.
Самая большая беда Клавдии, в сущности её трагедия, – разочарование в детях.
В споре за отца она ни у кого из них не получила поддержки. Она ожидала, что сумеет их уговорить, а если не уговорить, то сломить их волю, подчинить своим мыслям и решениям. Она так всегда делала, и всегда всё получалось так, как она предполагала. Но тут получилась осечка. Своей исковерканной жизни никто из них не простил. И дело здесь не во внешне неустроенной судьбе. Если бы так, всё было бы значительно проще. Внешне все они пристроены, у каждого из них своя судьба, своя жизнь, вполне обеспеченная, твёрдая, без каких-либо неожиданностей в будущем.
В этой борьбе за самое главное и сокровенное для неё Клавдия потерпела поражение. Не заметила она в детях своих той порчи, которая коснулась их души, разложила их настолько, что остались они без стержня, как и их отец. Все её попытки вдохнуть в них свою сердечную боль, мягкость, доброту разбивались о тяжкий эгоизм и зачерствевшее сердце её детей. Зло породило зло. Против этого протестует Клавдия. Михея можно спасти, можно отогреть его душу, но только добром, покоем, миром. А мира нет в её семье. Дети остались равнодушными к её мольбам.
Вопросы добра и зла, нравственного самоусовершенствования, человеческого перерождения и переустройства под влиянием жизненных oбcтоятельств постоянно бередят душу Владимира Максимова. Он из тех художников, которые остаются верными заветам великой русской классики, всегда тревожившей своих читателей страстными призывами к совести, к добру, свету, справедливости.
Но всё это было до отъезда В. Максимова в эмиграцию, как вскоре оказалось, временную. Перед отъездом он долго разговаривал с автором этой книги о литературе, о своих замыслах, о рукописном портфеле. Он говорил о рукописи, которую потом назвал «Семь дней творения», кое-что даже процитировал. Были попытки отговорить его от эмиграции. Автор этой книги вспомнил о работе над повестью «Стань за черту», опубликованной в журнале «Октябрь», неприемлемой для многих редакторов в издательстве, вспомнил наши долгие разговоры о Михаиле Булгакове, о первой части романа «Мастер и Маргарита»; о том, с какой настойчивостью он потребовал дать ему прочесть вторую часть: настолько роман поразил его своей необычностью и художественной смелостью. Он читал всю ночь… «Видишь, напечатали даже Булгакова, напечатают и тебя», но этот призыв не помог его остановить, у него были свои планы.
В разговорах с ним жёстко проскальзывала критическая нота по отношению к цензуре, к некоторым решениям идеологических инстанций, хорошо было известно, что Владимир Максимов – яростный антисоветчик, готовый всё отменить и заново построить новый мир. В 1968 году автор этой книги, получив должность старшего преподавателя филологического факультета МГУ, начав читать лекции на первом курсе и вести семинарские занятия, приглашал на семинары своих друзей-писателей, чтобы те поделились своим творческим опытом. Был приглашён и Владимир Максимов, который подробно рассказал о своём творческом пути, о своих книгах и замыслах. Но последние 15—20 минут он говорил о советском обществе, о тоталитаризме, о культе личности Сталина и Хрущёва, о том, что современному писателю нужно пройти семь кругов издательского ада, чтобы получить из рукописи книгу. Последние минуты этого выступления были вне нашей цензуры. Были опасения, что кто-нибудь доложит в деканат, но эти опасения оказались напрасными.