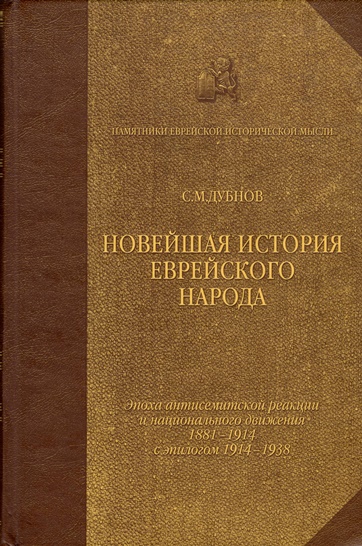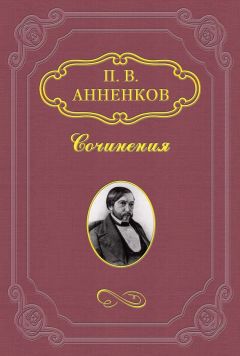благодарности и преданности. Молодежь, прошедшая через русскую школу, устремилась к культурному слиянию с русским обществом. Ассимиляция, «обрусение» — стали лозунгом дня. Политические идеалы молодой России стали священными заповедями для еврейской интеллигенции. И вдруг тот русский народ, с которым прогрессивные силы еврейства начали сближаться, выдвинул из своей среды банды громил и насильников; правительство решительно стало на путь реакции и юдофобии, а русское либеральное общество выразило очень мало сочувствия разгромленной и униженной нации. Громко звучал голос враждебной прессы («Новое время», «Русь» и др.), слабо защищала евреев пресса либеральная, сдавленная тисками цензуры («Голос», «Порядок» и др.). Даже публицисты леворадикальной партии, группировавшиеся вокруг журнала «Отечественные записки», смотрели на погромы лишь как на дикую форму нормальной экономической борьбы; всю сложную еврейскую проблему с ее вековым трагизмом они вообще трактовали как второстепенный социально-экономический вопрос. Только один из русских писателей, сатирик Щедрин-Салтыков, испытал душевное потрясение перед зрелищем новых мук старого народа. Он излил свое чувство в несвойственной ему лирической тираде в статье, написанной летом 1882 г. («Июльское веяние»), после завершения первого цикла погромов: «История никогда не начертала на своих страницах вопроса более тяжелого, более чуждого человечности, более мучительного, нежели вопрос еврейский... Нет более надрывающей сердце повести, чем повесть этого бесконечного истязания человека человеком». Щедрин был единственный из крупных русских писателей, откликнувшийся на еврейское горе; Тургенев и Толстой молчали, хотя от них ждали слова протеста, между тем как с горячими протестами выступили литературные корифеи Запада — Виктор Гюго, Ренан и многие другие. Холодно отнеслось русское общество к жгучей муке еврейства. Болезненно почувствовало эту холодность еврейское образованное общество; началась полоса разочарования в идеалах ассимиляции.
Сначала это разочарование прорывалось в грустных жалобах кающихся ассимиляторов. «Просвещенные еврейские силы, — исповедуется один из них еще в первые месяцы погромов, — отшатнулись от своей истории, забыли свои традиции, презрели все то, что могло им дать понятие о себе как о членах вечного народа. В ка-
ком плачевном положении очутились эти «сливавшиеся», вчерашние проповедники самоотречения! Жизнь потребовала самоопределения; положение меж двух стульев стало теперь невыносимо. Логика события приводит к альтернативе: или открыто объявить себя ренегатом, или же принять на себя долю в страданиях всего народа». Другой представитель еврейской интеллигенции пишет в конце 1881 года редактору русско-еврейского журнала: «Когда подумаю о том, что с нами сделали, как нас учили полюбить Россию и русское слово, как нас заманили и заставили ввести в семейство русский язык и все русское, как наши дети другого языка не знают, кроме русского, и как нас теперь отталкивают и гонят, — то сердце переполняется самым едким отчаянием». Даже в рядах еврейской революционной молодежи, где полное слияние с русским пролетариатом казалось непререкаемою догмою, послышались голоса кающихся: «В Елисаветграде впервые раздался крик: долой жидов!.. И мы, как народники (русские), думали, что это признак русской революции, что сначала она отразится на евреях, а потом пойдет дальше вглубь и вширь. Затем начались киевские беспорядки, описание которых нельзя было читать без содрогания, и все-таки мы были убеждены, что наше дело сторона: мы ведь принадлежим к русскому народу, русское общество, русская интеллигенция с нами заодно. Как это смешно, ребячески наивно!» [15].
Русско-еврейская литература того времени полна такими жалобами разочарованных интеллигентов. Не всегда это покаянное настроение приводило к положительным результатам. Одни, сроднившиеся с русскою культурою, не нашли уже пути возврата к еврейству и потонули в волне полной ассимиляции; другие, напротив, от полученного удара были отброшены далеко назад и провозгласили лозунг «Домой!», в смысле отречения от всяких стремлений к внутренним реформам. В значительной части еврейского общества перемена настроения вызвала определенный поворот в сторону национальной идеологии. Идея борьбы за национальное возрождение в самой России тогда еще не созрела; под впечатлением первых погромов спасение еврейства связывалось, главным образом, с идеей эмиграции. Сторонники американской эмиграции не без основания видели в ней начало создания нового, свободного центра диаспоры. В стихотворении «К сестре Рухаме», написанном после балтского погрома, поэт Л. Гордон обращается к «дочери Якова, изнасилованной сыном Хамора» (намек на Бытие, гл. 34, с игрою слов «бен-Хамор» — сын осла), с следующим призывом: «Встань, сестра, пойдем туда, где свет свободы сияет над всякой плотью, озаряет всякую душу, где дорог всякий, созданный по образу Божию, где человека не унижают за его народность и его Бога. Там не будут тебя грабить негодяи, там не будут над тобою ругаться, Рухама, сестра моя». Некоторые сторонники американской эмиграции мечтали о концентрации значительных масс в малонаселенных штатах, где впоследствии можно добиться широкой автономии [16].
Наряду с этой идеей перемещения центров внутри диаспоры, родилась в муках погромной эпохи идея отрицания диаспоры во имя возрождения национального центра в Палестине. Первым идеологом нового «палестинофильства» был М. Л. Лилиенблюм, писатель-радикал, раньше выступавший с проповедью реформы иудаизма (том II, § 48). Уже осенью 1881 года появились в «Рассвете» статьи этого писателя, имевшие целью обосновать едва зародившуюся идею колонизации Палестины как задачу общенациональную. Лилиенблюм доказывал, что причина всех исторических бедствий еврейского народа в том, что он во всех странах чужой, инородный элемент, в целом не сливающийся с народом-хозяином данной территории; хозяин терпит своего жильца, пока это ему выгодно, а при малейшем неудобстве стремится выжить его. В средние века нас преследовали вследствие религиозного фанатизма, теперь начинают преследовать по мотивам национальным и экономическим, и эта «вторая глава нашей истории будет иметь еще не мало кровавых страниц». Положить конец еврейскому горю может только устранение его причины: нужно перестать быть чужими в разных странах и утвердиться в стране, где мы могли бы быть хозяевами. Такою страною по историческому праву является для нас древняя родина Палестина. «Мы должны стремиться к колонизации Палестины так, чтобы в течение одного века евреи могли почти окончательно оставить негостеприимную Европу и переселиться в близкую к ней страну наших предков, на которую мы имеем право».
Эти мысли, развитые с тою упрощенною логичностью аргументации, которая многим казалась неотразимою, вполне отвечали тогдашнему паническому настроению масс, готовившихся к исходу из нового Египта. В эмиграционных кружках, возникших в начале 1882 года, было немало сторонников палестинской колонизации; между «американцами» и «палестинцами» кипели идейные споры. Молодой поэт С. Фруг пропел следующий восторженный марш исхода, озаглавив его библейским эпиграфом: «Скажи сынам Израиля — пусть идут!» (Исход XIV, 15):
И зорок глаз, и крепки ноги, и посох цел... Народ родной.
Чего ж ты стал среди дороги, поник седою