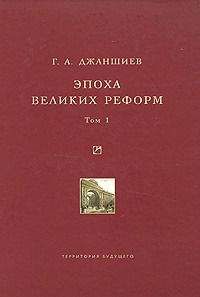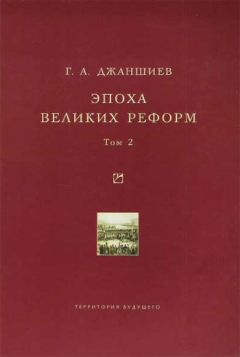Согласно мнению Головнина, последовало 10 января 1863 г. Высочайшее повеление о передаче цензуры в Министерство внутренних дел, куда передан был и проект комиссии кн. Оболенского.
Движенье-святое дело. Все в Божием мире развивается, идет вперед и не может, и не должно стоять. Неподвижность – смерть, неприметная, тихая, но все же смерть, производящая только гниль. Движение постоянное, мирное без потрясений, но беспрестанное есть жизнь. Останавливать движение или насильственно ускорять его (т. е. в обоих случаях лишать жизни) равно погибельно и для частного человека, и для народа.
Жуковский
С начала 1863 г. руководство реформою законодательства о печати переходит к министру внутренних дел П. А. Валуеву, противнику решительных, рациональных реформ и мастеру на паллиативные (см. гл. IV) «кунстштюки», по выражению проф. Редкина. 14 января Валуев образовал под председательством того же кн. Оболенского вторую комиссию, в состав которой вошли гг. Никитенко, Ржевский, Бычков, Гиляров-Платонов, Погорельский, Феоктистов (бывш. нач. глав, управ, по делам печати) и Фукс. К концу мая был составлен обширный проект Устава о книгопечатании, обнимавший все стороны реформы, как полицейско-административную, так и судебно-карательную. Устав этот, основанный на реакционном французском законодательстве времен Второй империи (оно было заимствовано и Турциею), лег в основу действующего закона 6 апреля о печати. Самое главное из предложенных проектов нововведений – это освобождение некоторой части литературы (книги объемом до 20-ти листов, издаваемые в столицах)[697], и периодические издания, с особого разрешения министра, от предварительной цензуры. Для повременных изданий устанавливался залог для (?) «покрытия пени», и они подвергались, сверх наказания по суду, административным взысканиям за «вредное направление» в виде предостережений от министра. После третьего предостережения издание прекращалось (§ 105 проекта)[698]. Что же касается книг, то они могли подвергаться только судебному взысканию, и для точного определения его проект в разделах III и IV давал длинный перечень преступлений и проступков печати (§ 93-143) и весьма подробные правила о судопроизводстве по делам печати (198 параграфов), причем важнейшие дела предлагал отдать в Петербурге и Москве – к чести составителей проекта – на суд присяжных, избираемых из гласных местной думы (§ 1 и 4).
В июне 1863 г. проект Устава о книгопечатании, несколько измененный министром П. А. Валуевым, был разослан до внесения в Государственный совет на заключение министров и главноуправляющих. Из поступивших отзывов наибольшего внимания заслуживают замечания В. А. Головнина и барона М. А. Корфа. Головнин, приветствуя сочувственно освобождение части печати от цензуры и подчинение ее (печати) судебному режиму, высказывается решительно против «административных взысканий». «Система эта, – пишет Головнин, – получила господство в тех странах, где по существующим условиям невозможно было восстановить цензуру предварительную, но вместе с тем являлось желание приблизиться к ней, как можно более. В новом уставе, напротив, система административных взысканий является переходною мерою, т. е. такою, при существовании которой литература должна приобрести известную опытность, известное самообладание и выдержанность для уменья пользоваться разумною свободою. Мне кажется, что система, о которой идет речь, не в состоянии развить в литературе этих качеств. Опыт убеждает, что подобно предварительной цензуре, она возбуждает в обществе то раздражение, тот дух упорной и даже преднамеренной оппозиции, устранение которых должно иметь преимущественно в виду… Цензура не допускает появления в свет вредной статьи; административная кара постигает статью, когда она уже проникла в публику; взыскания не ослабляют произведенного ею впечатления; напротив, внимание публики еще привлекается к ней, и она получает такое значение, на которое часто не имеет никакого права. Публика становится в таких случаях как бы судьею между правительством и журналистикою и принимает почти всегда сторону последней»[699].
Затем Головнин считал несправедливым лишение после третьего предостережения путем административным права собственности на издание (оно прекращалось), нередко представляющее значительную имущественную ценность. «После опытов последних лет, – писал в заключение министр народного просвещения, – я вообще нахожу предварительную цензуру несостоятельною для достижения целей правительства и потому полагаю, всего бы полезнее вовсе отменить оную, заменив прямо взысканиями по суду; но так как нет ни малейшей надежды осуществить такое предположение, то я допускаю переходные меры как временную уступку обстоятельствам».
Самый обстоятельный разбор проекта мы находим в обширной записке главноуправляющего II отделением Е. И. В. канцелярии барона В. Н. Корфа, занимающей 64 печатных страницы in folio. Барон Корф бывший член ужасной памяти Бутурлинского комитета (см. выше), ставит в вину комиссии кн. Оболенского, что она не обратила должного внимания на необходимость коренного изменения законодательства в смысле перехода от системы предварительной цензуры к карательной. Указав на то, как накануне еще крестьянской реформы люди мнительные признавали ее преждевременною, барон Корф замечает, что в сходном положении находится и вопрос о цензуре, с тою разницею, впрочем, что вред цензуры не для всех так очевиден, как вред крепостного права. «Как в крепостном праве, – пишет барон Корф, – по вековой к нему привычке, многие видели основание стойкости нашего государственного организма, и мысль об упразднении его возбуждала чувство безотчетного страха, так и цензура глубоко вросла в наши обычаи, и немало людей готовы думать, что ею единственно держится общественный порядок[700].
Переходя затем к вопросу о вреде цензуры, бар. Корф оговаривается, что он затрудняется изложить вполне свои соображения в официальной бумаге и старается быть, сколь возможно, кратким и менее отвлеченным. Главный вред цензуры он видит не в произволе, который более или менее встречается во всякой (?) административной и политической деятельности, а в основной идее цензуры. «На первый взгляд по идее своей цензура, – говорит барон Корф, – могла бы показаться учреждением самым благодетельным, необходимым в благоустроенном государстве. Ее назначение, по-видимому, указывать лучшую и правильную дорогу умственному развитию общества, устранять из области его все ложное и вредное, опасное и расчищать путь всему истинному и полезному. В самом деле, если бы существовало такое неизменное, безошибочное мерило для распознавания, что истинно и что ложно, что в произведениях человеческой мысли может принести пользу и что обратиться во вред; если бы нашелся ареопаг, который, обнимая прошедшее, настоящее и будущее человечества, в состоянии был бы непогрешимо указать, каким путем должна идти наука, и в какие окончательные формы должно вылиться общество; если бы при этом контролируемая правительством печать была единственным средством распространения мнений и учений между людьми, – установление цензуры было бы идеалом, лучше которого нечего было бы и желать». Ссылаясь на многовековой опыт, барон считает однако доказанным, что цензура не в состоянии была выполнить эту миссию, превосходящую силы человеческие: многие, если не все, истины, которыми постепенно обогащалось человечество, первоначально встречались с недоверием и должны были выдержать борьбу и только среди ее выяснялись, приобретали силу и окончательно утверждались; а, с другой стороны, ложные и опасные доктрины распространялись, несмотря на все запрещения. Только карательная система, предоставляющая печати свободу и карающая только за посягательства на главные начала общественного порядка, чужда указанных недостатков».
Обращаясь к России, барон Корф замечает, что перелом, происшедший в последние (60-е) годы в направлении внутренней политики, привел к необходимости дать печати полный простор, так как убедились, что только при содействии свободного общественного мнения возможно плодотворное движение и осуществление законодательных реформ, и само высшее правительство, передавшее на литературное суждение свои проекты, не могло не оценить услуг, оказанных литературою. «На опыте правительство убедилось, что только в свободе печати находится противоядие против злоупотребления печатью. В этом свободном обращении некоторой доли неправды наряду с истиною одно из драгоценнейших свойств карательной системы, и через это она делается могущественным орудием воспитания народа».