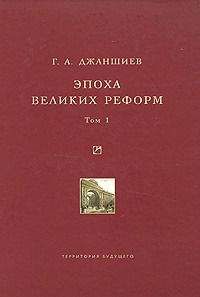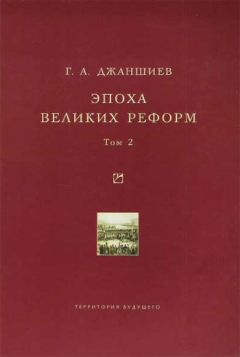Исходя из такого воззрения, бар. Корф полагал, что в России, ввиду отсутствия правильных судов (новые суды еще не были открыты) и привычки к свободному слову, невозможно было полное осуществление карательной системы. «В жизни общественной и частной, – говорит он, – ближайшею целью не всегда бывает тотчас безусловно хорошее, часто приходится искать сперва не лучшего, а наименее худшего». В этом смысле он склоняется на сторону смешанной системы и переходных мер, но осуждает проект Валуева, видя в нем не проникновение духом карательной системы, а лишь подновление действующего цензурного устава и даже введение для периодической прессы и литературы, не изъятой от предварительной цензуры (книги объемом менее 20 листов), новых строгостей и ограничений[701].
В частности, относительно «предостережений» барон Корф пишет: «Административные взыскания – это новая язва, заключающая в себе такую массу вреда, произвола и несправедливости, что против них протестовали и протестуют все благомыслящие люди. Система административных взысканий еще более заражена произволом и несправедливостью, нежели предупредительная цензура, ибо наказывает за вину, непредвиденную никаким положительным законом. Она могла оказаться необходимою там, где правительство, уже лишенное орудия предварительной цензуры, не считало возможным к ней возвращаться; но что вынуждает подражать в этом отношении примеру других, когда мы желаем не утеснения, а расширения свободы слова[702]}.. Самая же опасная сторона административных взысканий, как они, например, применялись во Франции, – пишет барон, – состоит в том, что одному лицу дается власть по индивидуальному воззрению, иногда по одному мипутному настроению духа без всякой дальнейшей перед законом ответственности лишать человека права собственности, права на занятие, которым он, может быть, жил, и что еще важнее – исключает из круга вращающихся в обществе мнений целое учение или направление».
В возражениях своих П. А. Валуев, с обычною своею неискренностью (см. гл. IV) оставил это место без ответа, но впоследствии, в заседании Государственного совета 10–23 января 1865 г., он объяснил, что «допущение административных взысканий необходимо по свойству журнальной литературы, которая всегда носит на себе более или менее оттенки политического характера и потому вызывает некоторые меры ограничения для того, чтобы сдерживать направление периодических изданий в законных (?) пределах»[703].
Барон Корф возражал также против установления 20-листовой нормы для освобождения от предварительной цензуры. Во Франции и Германии, откуда заимствована эта норма, литературная деятельность сосредоточивалась в сочинениях значительного объема. У нас же, где объемистые, капитальные сочинения составляют редкость, под такую норму подошла бы разве У7 всех сочинений. Барон Корф предлагал понизить норму до 10 листов и рассчитывал, что этою льготою воспользуются не более Уз всех сочинений. Мнительный рутинер П. А. Валуев находил такое понижение опасным, ссылаясь на то, что книги объемом в 10 листов касаются «самых щекотливых вопросов государственных и общественных» и по преимуществу (?) являются «популярными сочинениями с материалистическими, социалистическими и т. п. тенденциями»[704].
Весьма энергично возражал бар. Корф и против установления «залогов» для периодической прессы. Оправдание комиссиею кн. Оболенского залогов, как источника для «пополнения пеней», оппонент находил недостаточным, так как уголовный закон ни от кого никогда не требует обеспечения на случай (курсив в подлиннике) совершения преступлений. Истинный (хотя и не высказанный) мотив для залогов бар. Корф видел в желании сосредоточить периодическую печать в руках людей более зажиточных и удержать прессу от слишком сильного развития. «Но первое условие, – говорит он, – нисколько не служит гарантиею для увеличения в журналистике здравомыслия и других желаемых качеств. Что касается сокращения журналистики, то оно искусственно создает монополию для немногих изданий, которые получают власть и возможность господствовать над умами. При отсутствии же искусственного стеснения журналы хотя и умножаются, но исчезает их неестественное обаяние: народ начинает относиться к печатному слову, как к «обыкновенному говору людскому, в котором смесь дурного и хорошего, ложного и истинного никого не смущает». «Стремиться к водворению такого порядка вещей, – пишет бар. Корф, – нам в настоящее время в особенности необходимо: мы теперь вступили в тот именно период полуобразованности и полузнакомства с гласностью и с печатным словом, который неизбежен в жизни каждого народа, но через который для блага государства желательно пройти как можно скорее».
Мысль, слово! Это та неотъемлемая принадлежность человека, без которой он не человек, а животное! – Простор слова нужнее всех реформ после освобождения крестьян: нужнее и земских, и других учреждений, ибо в этом просторе заключается условие жизненности для всех этих учреждений, и без него-они едва ли взойдут.
И. С. Аксаков
В январе 1865 г. департамент законов Государственного совета приступил к обсуждению проекта Валуева в составе членов: Норова, барона Корфа, Литке, кн. Долгорукова, Бахтина, Буткова, кн. Горчакова, Валуева, Головнина, Замятнина, при статс-секретаре Зарудном. Единственный член, сделавший серьезную оппозицию проекту, был бывший министр народного просвещения Норов[705]. Он возражал против смешения предупредительной и карательной цензуры и видел в таком смешении доказательство «нестойкости мнений при начертании устава». В частности Норов восстал против расширения власти министра внутренних дел и лишения главного управления по делам печати всякой самостоятельности и низведения его на степень министерской канцелярии. Ссылаясь на собственный опыт по Министерству народного просвещения, Норов утверждал, что «громадная ответственность за проявления мысли в государстве едва ли не свыше сил одного человека». Для сохранения престижа министерской власти Норов проектировал переносить в Комитет министров разногласия между ним и Главным управлением. Но мнение это не было принято, и проект Валуева прошел в департаменте почти целиком[706]. Изменения были сделаны только в частностях: так, от представления залога освобождены были периодические издания, выходящие с разрешения предварительной цензуры; третье предостережение, влекшее за собою прекращение издания, могло быть сделано только с разрешения 1 департамента сената.
Что касается суда по делам печати, то тут произошла значительная перемена к худшему против первоначальных предположений. Как известно, в 1862 г. существовало предположение подчинить государственные преступления суду специальных присяжных, избираемых особым комитетом[707]. Такому же суду предположено было передать и важнейшие дела печати. Но мысль эта не получила осуществления, и присяжные заседатели были заменены по делам о государственных преступлениях сословными представителями. Что касается до других дел по делам печати, то Валуев, к чести его, проектировал специальный суд присяжных (обладание имущественным цензом, требуемым для избрания в мировые судьи)[708].
Предположение Валуева было поддержано II отделением Е.И.В. канцелярии в лице трех его главноуправляющих – бар. М. А. Корфа, даже гр. В. Н. Панина и кн. С. А. Урусова. Последний в своем обстоятельном отзыве 1865 г., между прочим, приводил следующие соображения в пользу необходимости допущения присяжных. «Благотворное действие судебных приговоров на настроение общества невозможно, – пишет он, – если суд не будет пользоваться полным доверием и нравственною поддержкою со стороны самого общества, а для этого прежде всего нужно, чтобы его решения вытекали из начал убеждений и взглядов, обществу вполне сродных. Коронные судьи по самому положению своему не могут не быть несколько оторваны от окружающей жизни, и приговоры их по делам печати часто бывали бы плодом отвлеченных умозаключений. В делах прессы эта односторонность может вести к большим неудобствам, ибо свобода слова менее чем что-либо должна измеряться каким-либо безусловным, общим для всех стран масштабом»[709]. Несмотря, однако, на столь авторитетную поддержку, департамент законов не принял предложения Валуева, главным образом, ввиду нежелания колебать Судебные Уставы (что, впрочем, не помешало (см. ниже) полгода спустя после введения Судебных Уставов, изменению их новеллою 12 декабря 1886 г. в смысле стеснительном для печати).