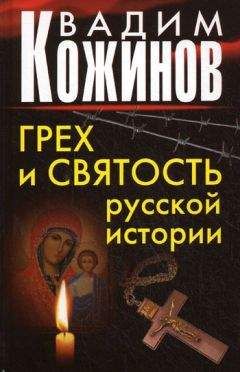Так думали и понимали классики в прекрасные времена цветения русских гениев. Во времена столь обильные, что не страшно было бодро бежать даже за «беспредельным идеалом» (у Кожинова чаадаевская «беспредельность идеала неразрывно связана с «беспощадностью самосуда» [1, с. 32]; во времена, столь полные родственным открытием чувства своей «отдельной национальности», что уже и мерещилось, что все «враждебное» в европейских идеях «найдет свое примирение в развитии русской народности» (слова Достоевсокого, которые написаны в 1863 г. в предуведомлении о начале издания им журнала «Время»). Кожинов следовал за Достоевским, а еще более за Чаадаевым, усиливая их бахтинской и гумилевской пассионарностью. Кожинов следовал за ними и писал свою работу, когда его страна – СССР – пребывала в своей лучшей поре уравновешенного покоя, когда объем русской литературы внутри советской был наиболее весом, ярок и безупречно огранен талантами.
Но все же почему так настойчив Кожинов в утверждении «всечеловечности» как народного, глубинного и сущностного свойства нашей культуры? Теоретическая четкость и строгая логичность в такой культурной схеме очевидна, – как классики XIX века, так и сам Кожинов, безусловно, были отличными учениками Гегеля. Гегелевские тезис-антитезис-синтез превратились в самобытность-всечеловечность, только вот «синтезом» выступили сам русский человек с его родовой сущностью и русская культура. Вот в этом-то «синтезе», в русском человеке как живом носителе русской культуры, как в живом деятеле русской истории, вся проблема и заключена.
Что же следует сделать нам? Во-первых, поставить рядом с героями статьи Кожинова других русских героев, которых он обошел вниманием и в силу «духа времени», и в силу личных пристрастий, на что, безусловно, он имел право. Поставим рядом, услышим голоса Страхова, Данилевского, Николая Дебольского (1842–1919) и нашего современника, санкт-петербургского философа Н.П. Ильина. Во-вторых, помыслим чувством об этой кожиновской настойчивости в вопросе всемирности-всечеловечности – быть может, увидим то, что не названо, но чем обладал сам Вадим Валерьянович?
Лучший философский очерк о трудах Дебольского был написан Н.П. Ильиным («Этика и метафизика национализма в трудах Н.Г. Дебольского». «Русское самосознание», СПб, 1995. С. 186) и написан так, что его выводы можно принять за окончательные. Известно, что традиция «уравновешивать» народы оправданием их деятельности в «общем содержании» человечества была начата благоразумными славянофилами, ставившими в конечном результате все же «понятие человечества принципиально выше понятия народности» [5]. Но Дебольский, показывает Ильин, идет дальше – он говорит, что «общечеловеческое не имеет собственной реальности, поэтому не может быть возводимо и в идею» [с. 21]. Следовательно, только теоретическая «всемирность» может стать национальным ядром «самобытности». Что такое человеческая культура – это культурные ценностные «продукты» каждого народа в совокупности. И нет никаких таких культурных истин, которые бы признавались и уважались в равной степени всеми народами. Разве все человечество оценило уникальную красоту православного духовного песнопения или иконы? (Вывоз икон из страны сегодня – это не поклонение ее реальной ценности – духовной красоте и религиозному смыслу, – но вывоз «конвертируемой валюты».) Разве все человечество способно, например, ценить классическую немецкую философию? Ильин твердо говорит, что чем ниже качество «продукта», тем более оно востребовано «всем человечеством». Нынешний «мировой культурный продукт» в американской упаковке – прямое и достаточно наглое доказательство «всемирного» культурного вкуса. Вывод, к которому пришел Дебольский по отношению к национальной, соприродной «реальному» человеку культуре, не отменим, пока национальные культуры имеют свои самостоятельные формы жизни: «Первичный критерий для оценки культурного творчества каждой нации надо искать в ней самой!» (Ильин Н. Указ. ст. о Дебольском. С. 22). Вопрос, как говорится, решен, остается только еще напомнить о не утраченной и ныне, о явно востребованной живой идее Данилевского о культурно-исторических типах, развитой и изложенной им в сочинении «Россия и Европа». Тогда не нужно будет оправдываться перед Европой и не нужно понимать в себе робость перед иностранцем (Кожинов цитирует Пришвина) как некое «естественное» культурно-национальное чувство. Зато нужно понять, что сама идея всемирной отзывчивости возникла как раз тогда, когда русская культура стала интересна Европе, когда с русской культурой уже никак нельзя было не считаться, следовательно, она не нуждалась больше ни в каких доказательствах всечеловеческих своих симпатий и покаянных чаадаевских причитаний, что мы «не входим в состав человечества».
Но если «критерий» надо искать в себе, то с неизбежностью возникает вопрос о самопонимании, о национальном самосознании. Н.Н. Страхов отдал этому делу всю свою жизнь – он боролся с Западом в нашей литературе («Борьба с Западом в нашей литературе» – назывался его трехтомный труд, изданный впервые в 1882–1883 гг. и выдержавший три переиздания в конце XIX века, но больше так никогда и не переиздаваемый, как, впрочем, и его книга «Из истории литературного нигилизма», СПб, 1890). Для него Чаадаев – «маловерный», маловерный настолько, что испугался смеха публики на представлении гоголевского «Ревизора» (Чаадаев в нем увидел лишь то, как «народ бичуем», «страну волочили в грязи», в лицо публике «бросали грубую брань», впрочем, модернисты от театра именно так и ставят «Ревизора» сегодня, «волочат в грязи» героев и «эту страну», – совершенно в согласии с чаадаевской концепцией). А вот император Николай I, и не подумавший бояться русских пороков, для Страхова предстает в «обилии веры». Именно с веры в Россию начиналось ее понимание и для Пушкина (вспомним пушкинский ответ Чаадаеву, его желание «не иметь другого Отечества» и другой истории, вспомним тютчевскую «особую стать» родины и страховское умное внимание к русскому человеку) [6]. Чаадаев видел в болезненной тяге к «европейскому суду» положительное проявление. Страхов всю жизнь писал о том, какое сопротивление оказал русский человек западным идеям и влияниям, какими болезнями он переболел, заражаясь западными идеями, в том числе и нигилизмом. Впрочем, и Данилевский с горьким юмором сказал о специфике любви к Отечеству г-на Чаадаева как человека «без почвы»: «Я люблю свое Отечество, но должен сознаться, что проку в нем никакого нет».
Чаадаев совершил «акт возмущения» против России и ее истории. Он прикрыл свое маловерие «всемирностью миссии», «беспредельным идеалом» русского народа, но все это так беспочвенно, утопично и опасно. Герцен тоже совершил акт возмущения против России (Кожинов пишет, что его совесть жгли пять казненных декабристов). Но, кажется, именно судьба Герцена способна, как никакая другая, опровергнуть теорию всемирности-всечеловечности русской культуры. Он – не просто западник, но человек, реально живущий западными идеями и на земле Запада. Кожинов пишет о его разочаровании в Западе, о его ужасе, последовавшем после 1848 года с казнями 11 тысяч парижан (и это с его-то русской совестью, обремененной пятью казненными декабристами!). Не знаю, известна ли была блестящая работа Н. Страхова о Герцене Кожинову, где Страхов убедительно показал, что именно на Западе нашел Герцен свою веру в Россию, но оказалось, что и этого обретения было мало. Необходим был следующий поступок – найти опору этой вере. Но как ее найти? Для этого и необходимо прийти к пониманию России. Герцен так и не смог сделать этого волевого усилия, он, «первый наш западник, отчаявшийся в Западе» [с. 79], до конца своей жизни, пишет Страхов, прибегал в понимании России к помощи «идей, совершенно ей чуждых, совершенно посторонних» [7, с. 97]. Герцен не сумел жить на Западе ни с какой «русской всечеловечностью» – потому что ее в нем не было, но были сострадание, чувствительность, совестливость, русская способность понимать других (в XVIII веке П. Плавильщиков говорил о русской «неудобопостижимой способности все понимать»). На Западе он смог жить западными идеями (т. е. не самобытными). Да, он, первый разочаровавшийся западник, увидел иначе Россию, но именно объяснял ее не изнутри России (то есть самобытно), но извне, «чужими идеями». В этом его трагедия.
Если Достоевский мог плакать реальными слезами над «святыми камнями» Европы, то подхвативший идею всечеловечности и превративший ее в идею «всемирного синтеза» Владимир Соловьев (кстати, постоянный противник и даже ненавистник Данилевского и Страхова) превратил самобытный русский народ славянофилов исключительно в инструмент для целей «вселенской теократии», мало отличающейся в сущности от всемирного интернационала. (Об этом впервые было сказано Н.П. Ильиным в его статье о Страхове, где, в том числе, и выделена страховская мысль: «В. Соловьев называет начало народности началом племенного раздора… несравненно основательнее можно бы назвать начало единства человечества началом насилия» [с. 10], – с чем мы, свидетели «кулачного права» в отношениях между народами и странами в XXI веке, не только можем согласиться, если хотим избежать исторической слепоты, но и восхититься проницательностью лучших русских умов, в более благополучные времена увидевших во «всемирном синтезе» серьезную проблему.)